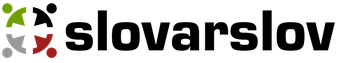Дмитрий мережковский между шариковым и антихристом. К неведомому богу (Дмитрий Мережковский: исповедание Третьего Завета)
(Дмитрий Мережковский: исповедание Третьего Завета) Полон чистою любовью, Верен сладостной мечте, A.M.D. своею кровью Начертал он на щите. А.С. Пушкин
В Новом Завете рассказывается такой эпизод. Когда апостол Павел
прибыл в Афины проповедовать учение Христа, то «некоторые из эпикурейских
и стоических философов стали спорить с ним; и одни говорили:
«что хочет сказать этот суеслов?», а другие: «кажется, он проповедует
о чужих божествах», потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение.
И, взяв его, привели в ареопаг и говорили: можем ли мы знать,
что это за новое учение, проповедуемое тобою? …
И, став Павел среди ареопага, сказал: Афиняне! По всему вижу я,
что вы как бы особенно набожны.
Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашёл и жертвенник,
на котором написано: «неведомому Богу». Сего то, Которого вы,
не зная, чтите, я проповедую вам». (Деяния. 17, 18, 22-23).
Дмитрий Сергеевич Мережковский
Всю свою жизнь Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865 -1941) только
тем и занимался, что искал этого Неведомого Бога и проповедовал
Его со всею страстью, какая только была ему отпущена. Нашёл ли
он Его – об этом знает только этот Неведомый Бог. Кем был этот
Бог? На этот вопрос в разные периоды своей жизни он давал разные
ответы, называя его то Христом, то Богом Третьего Завета – Св.
Духом, то Богом символической Троицы («Тайна Трёх»). Дело не в
именах – дело в самой вере и непрерывных исканиях. Мережковский
близок нам не только своими размышлениями о смысле жизни, о смысле
бытия, – можно сказать, в этих вопросах он ещё и не очень-то разбирался,
– но тем, что он искал высшей Истины и по мере сил нашёл её. Атомный
кризис – страх перед выступлениями Мао Цзедуна, размахивавшего
атомной бомбой в семидесятых годах, – конечно, этого Мережковский
не мог видеть. Равно, как и сегодняшнюю революционную ситуацию
в России. Но он видел другое: революция 17 года в обеих своих
ипостасях для него была символом общерусской катастрофы.
Уже в зрелые годы, будучи в эмиграции, он писал:
«Страдать и любить я готов до конца И знать, что за подвиг не будет венца» (1923 г.).
С 90-х годов XIX века и до самой смерти, уже во время второй мировой
войны, Мережковский неизменно был в центре внимания сначала русской,
а позднее международной общественности. Его проза и публицистика
уже при жизни были переведены на десятки языков, не только европейских,
но и азиатских. А его авторитет распространялся по всему миру,
не зная государственных границ. На праздновании его семидесятилетия
в Париже в 1935 году присутствовали члены французского правительства,
в том числе министр культуры – Гастон Раже, писатели из многих
крупных европейских стран. Мережковского трижды выдвигали на Нобелевскую
премию, – впрочем, не присудили ни разу, каждый раз находились
«веские причины», чтобы выбор был сделан иначе. Однако в других
знаках отличия, включая ордена и иные правительственные награды
разных государств, недостатка не было.
Глядя со стороны, можно сказать, что Д.С. Мережковский, также
как и неразлучная его подруга жизни Зинаида Николаевна Мережковская
(Гиппиус) прожили внешне необычайно благополучную и даже счастливую
жизнь (52 года брака без единой отлучки друг от друга не более,
чем на один день. Неизвестно ни одного письма или вообще какой-либо
переписки Д.С. и З.Н., хотя их общий архив не освоен до сих пор.),
особенно, если сравнить её с перипетиями судьбы большей части
русских писателей – эмигрантов, чья жизнь пришлась на ту же зубодробительную
историческую эпоху. Долголетие, крепкое здоровье до глубокой старости,
сравнительная материальная обеспеченность на протяжении всей жизни,
всемирное признание, знакомство с самыми влиятельными людьми мира
сего… . И вместе с тем постоянная бесприютность – и материальная
(эмиграция), и главное – духовная.
Вот что пишут о Д.С. некоторые мемуаристы: «Мережковский всегда
казался мне более духовным, чем физическим существом. Душа его
не только светилась в его глазах, но как будто просвечивала через
всю его телесную оболочку». (И Одоевцева «На берегах Сены»).
Или: «Как бы ни относиться к духовности Мережковского, начала
природного, земляного и плотского в нём уж очень мало, пожалуй,
совсем не было. Оба они – и он, и Зинаида Гиппиус – так и прошли
через всю жизнь особыми существами, полутенями, полупризраками».
(Б.К. Зайцев «Памяти Мережковского. 100 лет»).
Основной массив творчества Мережковского составляет его историческая
проза. Начав как историк – прозаик в конце XIX века романом «Юлиан
Отступник», он и закончил свою деятельность, умерев буквально
с пером в руке, не успев дописать последний исторический очерк
«Маленькая Тереза». Но изображение исторических фактов, тех или
иных персонажей как реальных, так и выдуманных никогда не было
для автора не то, чтобы самоцелью, но и вообще являлось второстепенным
элементом повествования. История под его пером – это некоторое
Действо, литургия, мистерия. Это то, что совершается во имя неких
провиденциальных целей героями, олицетворяющими мистический опыт
автора в постижении всего этого загадочного процесса.
Оценки различных исторических событий и трактовка их на протяжении
творческого пути автора подчас неоднократно менялись, порой на
диаметрально противоположные. Неизменным оставалось одно – взгляд
на них с точки зрения не участника истории, а как бы её творца,
основывающегося на узловых моментах исторического процесса, словно
ориентирующегося по звёздам в глубокой ночи. Эти звёзды определяют
и судьбы грядущих эпох, и само движение корабля, и курс, по которому
он следует. Каждая из исторических работ Мережковского, какой
бы эпохе она ни была посвящена (а размах его огромен – от Атлантиды
и Древнего Египта до современности), – лишь звено в огромной цепи
непрерывного и непрестанного художественно-философского исследования
мира и Бога, человека и человечества, которое проводит их автор,
создавая свою концепцию мироздания, его цели и смысла.
«Противоречия разрушают систему, ослабляют проповедь, но утверждают
подлинность переживаний, – писал Мережковский в предисловии к
своему последнему собранию сочинений, увидевшему свет в России.
– Как ни соблазнительно совершенство кристаллов, следует предпочесть
несовершенный, неправильный, противоречивый извне и противоречивый
изнутри побеждающий рост растения. Я не хочу последователей, учеников….,
– я хотел бы только спутников. Не говорю: идите туда; говорю:
если нам по пути, то пойдём вместе». Кстати, одну из книг своей
историко-философской эссеистики он так и назвал: «Вечные спутники».
Призыв к интеллектуальной раскованности, к свободе мысли необычайно
близок нам именно сегодня – и здесь сам Мережковский стал для
нас таким же вечным спутником. «Я не имею притязания давать людям
истину, – писал он, – но надеюсь: может быть, кто-либо вместе
со мною пожелает искать истины. Если да, то пусть идёт рядом по
тем же извилистым, иногда тёмным и страшным, путям; делит
со мною иногда почти безысходную муку тех противоречий, которые
я переживал. Читатель равен мне во всём; если я вышел из
них – выйдет и он».
…. В романе «Антихрист» («Пётр и Алексей»), который посвящён
истории России при Петре I, есть эпизод, изображающий тягостную
для отца и сына сцену одного из допросов Петром царевича Алексея
(А мы можем подумать как Сталин или Ягода, или Ежов… – допрашивали
в подвалах НКВД Зиновьева, Каменеве, Бухарина…) . «Они, – пишет
автор, – молча смотрели друг другу в глаза одинаковым взором.
И в этих лицах, столь разных, было сходство. Они отражали и углубляли
друг друга, как зеркала, до бесконечности».
Не меньше, чем о героях романа говорит этот образ и о его создателе.
Небо и Земля, Запад и Восток, Христос и Антихрист, дух и плоть,
вера и сомнение, государственность и народность, революция и религия
– бесчисленные зеркала, отражающие, преломляющие, множащие ракурсы
восприятия, охватывающие удивительно разнообразный и противоречивый
материал, переплавляемый писателем в тигле своего сознания, своей
души. Таков Мережковский сознательно. Таков, видимо, и бессознательно.
Как при его жизни, так и после смерти, писателя часто упрекали
в схематичности, в умственном конструировании надуманных оппозиций
при рассмотрении исторических явлений, в сухости и холодности
изображения.
В своей «Автобиографической заметке», написанной ещё до революции
1917 года, Д.С. частично признаёт эти упрёки, но в ответ говорит,
что для него всё это совершенно естественно, что он «не сочиняет»,
не придумывает нарочно, а просто не может мыслить и чувствовать
иначе.
Среди самых главных, самых мучительных для него вопросов – вопрос
о судьбах культуры. О месте разумных и подлинно человеческих начал
в бесконечных изломах и противоречиях исторического процесса.
Порой при чтении его работ кажется, что мир «сдвинулся с места
и в безумной фантастичности переживает вихрь антитез, тоски и
ожидания кончины», как заметил один из современников писателя
(Б. Грифцов. «Три мыслителя». Москва, 1911, стр. 125).
Острейшее чувство «финала». Мысль о завершении мировой истории
буквально пронизывает всё творчество Мережковского, делает его
необычайно созвучным нашему времени, позволяя с апокалипсической
ясностью взглянуть на путь всемирной культуры, дать прямо-таки
пронзительные оценки её высшим достижениям и творцам. Поскольку
смотрит он на них с высоты «последних вершин». Европейскую известность
принесла писателю его трилогия исторических романов «Христос и
Антихрист». Именно здесь он впервые попробовал проложить себе
курс в истории, ориентируясь по самым ярким звёздам. В трилогии
это римский император Юлиан, прозванный Отступником (роман «Смерть
богов»), Леонардо да Винчи («Воскресшие боги») и Пётр I («Антихрист»).
Содержание трилогии, впрочем, далеко выходит за жёсткие рамки
той идейной схемы, которая обозначена в названиях вошедших в неё
произведений, а зачастую прямо противоречит ей. В те годы Мережковский
считал, что всемирная история развивается как непрерывное противостояние
языческого и христианского начал (разумеется, со времени возникновения
последнего). При этом языческое отождествлялось с земным, а христианское
– с небесным. Непрерывная борьба духа и плоти как бы и выражала
движение исторического процесса. Эта концепция легла в основу
и его капитального исследования «Л. Толстой и Достоевский», где
Толстой назван «ясновидцем плоти», а Достоевский – «ясновидцем
духа». С годами писатель освободился от таких резких антиномий,
поэтому от романа к роману стиль его становится более совершенным,
ёмким, многосмысленным. Но и, конечно, поражает колоссальная
эрудиция автора, его умение вникнуть в мельчайшие детали быта
изображаемых эпох.
З. Гиппиус писала в дневниках, что для полноценного ознакомления
с материалом для очередного произведения Мережковский считал необходимым
хотя бы ненадолго выехать на «место действия», осмотреть места,
которые будут изображены, по возможности пообщаться с местными
жителями.
Образ императора Юлиана, сделавшего последнюю отчаянную попытку
остановить распространение христианства (христианство в те годы
представлялось Мережковскому как своего рода полу – дьявольское
нашествие), возродить древние языческие верования в конце XIX
века вызывал интерес не только у Мережковского: судьбы язычества
и христианства были в центре духовных исканий эпохи (как и сейчас).
Г. Ибсен также обратился к фигуре Юлиана в пьесе «Кесарь и галилеянин»,
затронув в ней проблемы, в общем, сходные с волновавшими Мережковского.
Судьба язычества в «Смерти богов» осмысливается как судьба культурного
наследия перед лицом наступающего варварства, роль которого в
романе исполняет ещё совсем исторически «молодое» христианство
с его строгой аскезой, проповедью неприятия земной жизни, а вместе
с ней и языческой культуры.
Сам автор во многом на стороне Юлиана, наделяет его собственным
трагическим мироощущением, тоской по уходящим в невозвратное прошлое
красоте и величию античной культуры. «Если нет ни чудес, ни богов,
вся моя жизнь – безумие,– признаётся в романе одному из своих
собеседников Юлиан.– …А за мою любовь к обрядам и гаданиям древности
не суди меня слишком строго. Как тебе это объяснить – не знаю.
Старые, глупые песни трогают меня до слёз. Я люблю вечер больше
утра, осень – больше весны. Я люблю всё уходящее. Я люблю благоухание
умирающих цветов… Мне нужна эта сладкая грусть, этот золотистый
и волшебный сумрак. Там, в далёкой древности, есть что-то несказанно
прекрасное и милое, чего я больше нигде не нахожу. Там сияние
вечернего солнца на пожелтевшем от старости мраморе. Не отнимай
у меня этой безумной любви к тому, чего нет! То, что было, прекраснее
всего, что есть. Над моею душою воспоминание имеет большую власть,
чем надежда…». Разумеется, и возвышенный поэтический стиль прозы
Мережковского этого периода, подчас отдающий безвкусицей, и само
трагическое мировосприятие идут от увлечения возвышенной риторикой
Ф. Ницше – общепризнанного кумира эпохи рубежа XIX – XX веков.
В книгах, статьях, стихах Мережковского того времени культура
предстаёт и неизменно остаётся непреходящей ценностью. В образах
самих её созданий она выглядит чем-то хрупким, почти прозрачным,
как дорогой старинный фарфор, одновременно демонстрируя свою двойственность,
несущую семена разрушения. Это и придаёт ей символику духовного
трагизма.
Юлиан, изображённый Мережковским в романе, с самого начала знает,
что его дело обречено, что его бунт против христианства бесперспективен.
Более того – понимает даже и то, что христианство «прогрессивнее»
и шире язычества, но отказаться от своей веры не может и не хочет,
идя во имя неё на сознательную гибель. Но и погибая, Юлиан убеждён,
что протест его не бессмыслен, что, даже идя против всех, он исполняет
какое-то высшее предназначение. Интуитивно автор предчувствует,
рассматривая образ Юлиана, фигуры Наполеона, Гитлера, Муссолини.
Примерно в это же время Мережковский в своих стихах писал:
И смерть, и жизнь – родные бездны: Они подобны и равны, Друг другу чужды и любезны, Одна в другой отражены. (….) И зло, и благо – тайна гроба. И тайна жизни – два пути. Ведут к единой цели оба. И всё равно, куда идти. (1901 г.).
«Я ничего не боюсь: гибель моя будет торжеством моим… Слава отверженным,
слава побеждённым!» – Восклицает в романе Юлиан. Нетрудно заметить,
что такого рода мысли совершенно чужды той эпохе, которую изображает
Мережковский. Латинская поговорка гласит: vae victis!, то есть
«горе побеждённым», а вовсе не слава, как якобы говорит Юлиан
под пером автора. Очевиднее всего здесь просматривается общеромантический
пафос молодого автора. Как не вспомнить байроновских бунтарей.
Любопытно, что примерно в это же время З. Гиппиус писала в одном
из своих программных стихотворений:
Дерзновенны наши речи, Но на смерть обречены Слишком ранние предтечи Слишком медленной весны.
: Очевидно и другое: печать иного времени, иного подхода, в большей
мере эстетического, чем морального, по формуле Достоевского, что
«красота спасёт мир». Разумеется, в творчестве Мережковского этого
периода нет и намёка на рассмотрение чего бы то ни было и с социально–
политической точки зрения. Близкие как народничеству, так и нарождающемуся
марксизму категории классовой борьбы, общественного сознания Мережковскому
тех лет совершенно чужды.
Впрочем, увлечение чистым эстетизмом было для писателя недолгим.
Уже во второй части трилогии он всё больше и больше «идеологизирует»
свою прозу. Роман «Воскресшие боги», посвящённый жизни и судьбе
гениального мастера итальянского Возрождения – Леонардо да Винчи,
– одна из вершин творчества Мережковского. Видимо, сама читаемая
его книга и поныне.
«Всё было для него живым: вселенная – одним великим телом, как
тело человека – малою вселенною. – размышляет автор о сокровенной
тайне образа Леонардо. – Он подобен был человеку, проснувшемуся
в темноте, слишком рано, когда все спят. Одинокий среди ближних,
писал он свои дневники с сокровенными письменами для дальнего
брата…».
Здесь, видимо, нужно сделать небольшое пояснение: как известно,
многие рукописи Леонардо написаны как бы «зеркальным письмом»,
так что прочесть их можно, только пользуясь отражением в зеркале.
Это ставило в тупик исследователей его творчества ещё пятьсот
лет тому назад.
Название романа «Воскресшие боги», по концепции Мережковского,
должно выражать своего рода историческое возмездие за гибель того
дела, которому был предан Юлиан. Леонардо был призван «отомстить»
«историческому» христианству за поражение языческой культуры.
Но и сам образ великого художника постоянно двоится: две бездны
в душе Леонардо – бездну верхнюю и бездну нижнюю – соединяет в
неразделимое целое, вызывающее и ужас, и восторг одновременно.
(В «Комедии» Данте сам автор и Вергилий, его проводник, спускаясь
в самые глубины ада, – в итоге оказываются на вершинах Чистилища
и даже Рая. Земля шарообразна, и чем больше мы идём вглубь, тем
ближе к новому полюсу, новой вершине.)
Так воспринимает Леонардо его ученик Бельтраффио, от лица которого
ведётся значительная часть повествования: «Вечером показывал мне
множество карикатур не только людей, но и животных – страшные
лица, похожие на те, что преследуют больных в бреду. В зверском
мелькает человеческое, в человеческом – зверское, одно переходит
в другое легко и естественно до ужаса. … И всего ужаснее то, что
эти уроды кажутся знакомыми, как будто где-то уже видел их, и
что-то есть в них соблазнительное, что отталкивает и в то же время
притягивает, как бездна. Смотришь, ужасаешься – и нельзя оторвать
от них глаз так же, как от божественной улыбки Девы Марии». Это
мнение, впрочем, далеко не одного Бельтраффио. Его разделяет и
сам автор романа.
Наглядным воплощением этой двойственности мировосприятия стала
знаменитая Джоконда – венец творчества художника. Как известно,
отсутствие достаточно известных фактов о модели, послужившей основой
для портрета, породило в искусствоведении множество противоречивых
гипотез и предположений. Часть из них зафиксирована и в романе.
Однако нас поражает не это. (В конце концов, романист имеет право
на художественный вымысел). Удивляет сегодня другое. Силой художественной
интуиции Мережковский угадал одно из сенсационных открытий нашего
времени, когда японские исследователи с помощью современной компьютерной
техники смогли установить тот факт, что Джоконда – не что иное,
как своеобразный портрет Леонардо да Винчи в женском обличии.
А в романе, написанном более чем за восемьдесят лет до гипотез
такого рода, Мережковский от лица Бельтраффио говорит: «как будто
всю жизнь, во всех своих созданиях, искал он отражение собственной
прелести и, наконец, нашёл в лице Джиоконды… Как будто мона Лиза
была не живой человек, не супруга флорентинского гражданина мессэра
Джиоконда, обыкновеннейшего из людей, а существо, подобное призракам,
вызванное волей учителя, – оборотень, женский двойник самого Леонардо».
Его универсальный гений, по мысли автора, настолько всеобъемлющ,
что преодолевает не только границы стран, эпох и идеологий, но
и возвышается над полом – сексуальностью – как порождением плоти;
не застывает в рамках мужского или женского, также как и в любых
других рамках. И вот в этом романе на одно из первых мест впервые
у Мережковского выдвигается вопрос о взаимоотношениях личности
и общества.
Спокойно ближних зло приемлю, Любовью дальних окружён, -
мог бы, наверное, вслед за поэтом Иваном Рукавишниковы сказать
Леонардо да Винчи в «Воскресших богах». Устремляясь своим творчеством
к разрешению вечных загадок бытия, художник может быть почти безразличным
к заботам дня текущего. С одинаковым равнодушием Леонардо оказывается
на службе то одного, то другого князя, – то печально знаменитого
тирана Цезаря Борджиа, то французского короля Франциска I. Более
того, под пером Мережковского у Леонардо Цезарь Борджиа, как и
его отец, – римский папа Александр VI –вызывают какой-т особый
пристальный интерес как своеобразные диковинные породы живых существ,
наделённых загадочным обаянием зла.
И здесь ощутима романтическая традиция поэтики антиэстетического
и даже противоестественного, идущая от Эдгара По, бодлеровских
«Цветов зла». Леонардо выглядит в романе человеком, словно созданным
для иного мира, с иными понятиями о прекрасном и безобразном,
добром и злом. В свете этих представлений образы земного мира
выглядят, так сказать, недостаточными, почти неполноценными, вызывающими
скорее грустную улыбку, чем желание что-либо изменить.
Леонардо поэтому и существует, как бы не вполне воплотившись,
живёт, замкнувшись в своём внутреннем одиночестве, словно обходя
стороной тревоги и радости земные, глядя на них из своего «прекрасного
далёка». Тем не менее, горделивые притязания земных царей не вызывают
симпатий ни у автора романа, ни у его героя. «Мне кажется, не
тот свободен, кто, подобно Цезарю (Борджиа– Г.М.), смеет всё,
потому что не знает и не любит ничего, а тот, кто смеет, потому
что знает и любит. Только такою свободою люди победят зло и добро,
верх и низ, все преграды и пределы земные, все тяжести, станут
как боги…». Здесь, конечно, и аллюзия сверхчеловека Ф. Ницше («По
ту сторону добра и зла»), и намёк на то, что именно в бумагах
Леонардо был найден проект летательного аппарата наподобие современного
вертолёта.
Леонардо да Винчи означает, собственно говоря, – родом из местечка
Винчи, но одновременно это слово происходит от латинского «vinci,
vincere – побеждать». Леонардо – «победитель». Своего рода антитеза
Христу – богочеловеку, Человекобог. Эта тема была одной из ведущих
в философских дискуссиях первых двух десятилетий ХХ века. Через
тридцать лет, вернувшись к образу Леонардо, Мережковский в речи
на конференции по культуре во Флоренции «Леонардо да Винчи и мы»
(1932 год) сказал, обращаясь к своему творчеству начала XX века:
«Я думал тогда, как и теперь многие думают,…что Данте ошибся:
нет ада, есть только другой, неиспытанный рай; нет дьявола, есть
только другой, ещё неузнанный Бог; нет антихриста, есть только
другой, ещё не пришедший Христос; первый – наполовину Спаситель,
а на другую половину – второй, тот, кого христиане называют «Антихристом».
Вся, некогда христианская, ныне языческая, культура, от своего
начала до конца, от Винчи до Гёте, – «мир сей», казалось мне,
в Евангелие Христа не вмещается; но вместится в «Евангелие Антихриста».
Истина совершенная и заключается будто бы в том, чтобы соединить
верхнее небо с «нижним». Христа с Антихристом. Этого-то соединения
предтечей и был для меня Леонардо да Винчи. Первым героем моим
был Юлиан Отступник; вторым – Леонардо, тоже Отступник».
Как мы постарались показать, Мережковский за прошедшие годы коренным
образом изменил мнение о своих главных и любимых героях: «Всё
это кажется мне, после тридцатилетнего опыта, после Войны и безымянного
русского Ужаса, таким кощунством, такой смешной и страшной нелепостью,
что мне трудно говорить об этом, хотя бы только наружно спокойно».
И он заключает свою речь строгим приговором: «Человек с двоящимися
мыслями не твёрд на всех путях своих» (Иак., 1,8). И более того:
«Имени Его (Христа – Г.М.) не знают или не хотят знать, Винчи
и Гёте; Данте знает, и мы могли бы от него узнать». Такого рода
радикальное переосмысление своей позиции связано у Мережковского,
несомненно, с опытом мировой войны и революции в России. Но более
подробно мы поговорим об этом в дальнейшем, а пока обратимся к
третьей части трилогии – роману «Антихрист». Всё, что было недосказано
Леонардо, – доскажет будущая Россия, к этой мысли подошёл писатель
в конце романа «Воскресшие боги». И не такой уж невозможной выглядит
введённая в повествование сцена встречи безвестного русского иконописца
с гениальным итальянским мастером во время визита русского посольства
великого князя Василия Иоанновича к Франциску I. В русско-византийской
иконописи, по Мережковскому, видится Леонардо «сила веры, более
древняя и вместе с тем более юная, чем в самых ранних созданиях
итальянских мастеров, Чимабуэ и Джиотто; было смутное чаяние
великой, новой красоты, – как бы таинственные сумерки, в которых
последний луч эллинской прелести сливался с первым лучом ещё неведомого
утра».
В заключительной части трилогии – «Антихрист» («Пётр и Алексей»)
действие переносится в Россию времён Петра I. Однако заключительной
её можно назвать лишь условно. Дальнейшее творчество Мережковского
показало, что финал трилогии стал лишь началом нового цикла произведений.
Сквозная идея, объединяющая все книги трилогии, – мысль о предчувствии
Иного, о несовершенстве настоящего в ожидании Грядущего – в «Антихристе»
достигает наивысшего напряжения. В Романе о Юлиане Отступнике
– гибель язычества становится знаком предчувствия всемирного торжества
христианства. Но в последнем автор видит скорее варварство, чем
подлинное духовное величие, поэтому воскресшее в форме итальянского
Возрождения язычество представляется и возрождением культуры в
целом. Такое е своеобразное «возрождение» осуществляет в России,
по мысли Мережковского, и Пётр I – уже несомненный антихрист и
революционер. Мысль о том, что христианство следует дополнить
антихристианством, то есть язычеством, тогда была Мережковскому
очень близка. Мы уже говорили, что впоследствии он отказался от
неё. Однако не всё так просто, как выглядит на первый взгляд.
В традиционном христианском представлении, изложенном в Откровении
Св. Иоанна явление Антихриста – знак близкого конца света, поэтому
образ Петра I осмыслен в романе в откровенно апокалипсических
тонах. «Антихристом» называют Петра в народе, конечно, в первую
очередь раскольники– старообрядцы. Таким он видится и автору трилогии,
хотя в контексте исторических раздумий писателя это слово означает
не конечное осуждение, а лишь определённую ступень на пути торжества
истины.
В этом смысле роман стал одним из идейных художественных центров
в творчестве Мережковского, поставившем в сжатом виде те вопросы,
ответы на которые в дальнейшем займут долгие годы и приведут автора
сначала к поддержке революционного движения, а потом – к категорическому
отказу от революции. Сам роман, а в особенности историческая концепция,
положенная в его основу, оказали огромное влияние на русскую и
мировую литературу. Томас Манн восхищался глубиной и проникновенностью
философского наследия Мережковского, обращаясь к проблеме творчества
в ряде своих произведений. Образ же Петербурга у А.Белого и А.Блока
вообще непредставим без Петербурга Мережковского.
В его изображении строительство этого города, центра и символа
новой России, само по себе означает конец света, по крайней мере,
конец традиционной России вообще. Как известно, эта мысль на протяжении
XIX века многократно обсуждалась в русской литературе. Апокалипсический
образ Медного всадника, который «Россию вздёрнул на дыбы», казалось,
парил над всей страной, так или иначе невольно ассоциируясь со
всадниками Апокалипсиса:
«Я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно
из четырёх животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и
смотри.
Я взглянул, и вот, конь белый, и на нём всадник, имеющий лук,
и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить.
И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее:
иди и смотри.
И вышел другой конь рыжий; и сидящему на нём дано взять мир со
земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч.
И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее:
иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нём всадник,
имеющий меру в руке своей.
И когда Он снял четвёртую печать, я слышал голос четвёртого животного,
говорящий: иди и смотри.
И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нём всадник, которому
имя «смерть»; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвёртую
частью земли – умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными».
(Откр., 6, 1-8).
Подхватывая пушкинские мысли о протеистической страсти Петра к
перевоплощениям, к маскам, к игре – от «потешных» солдат – к «маскерадам»,
от праздников – карнавалов к маскарадной перелицовке всего российского
уклада жизни, Мережковский переосмысляет их в духе современной
ему эпохи. Предчувствие социальных перемен, неведомых и страшных
событий, охватившее в то время общество (роман увидел свет в 1904-1905
годах), наложило на произведение особую печать.
«Истинное просвещение внушает ненависть к рабству, – говорит один
из героев романа.– А русский царь, по самой природе власти своей
– деспот, и ему нужны рабы. Вот почему усердно вводит он в народ
цифирь, навигацию, фортификацию и прочие низшие прикладные знания,
но никогда не допустит своих подданных до истинного просвещения,
которое требует свободы». По мысли Мережковского, эти «низшие
прикладные знания» – ничто иное, как новые цепи рабства, приковывающие
людей к реальностям «мира сего». Между тем, Христос учил: «не
любите мир, ни того, что в мире». Тот же герой продолжает: «Посвящение
для власти русских царей всё равно, что солнце для снега: когда
оно слабо, снег блестит, играет; когда сильно – тает». (Ср. с
К. Леонтьевым: «Россию нужно подморозить, чтобы не сгнила».) Такие
слова, сказанные в самый канун первой русской революции свидетельствуют
о позиции авторов вполне однозначно. Для Мережковского преемственность
в царствовании дома Романовых – вещь далеко не отвлечённая. То
конкретное нравственное историческое содержание, которое вложил
в понимание императорской власти Пётр I, закономерно ведёт к революции…
Мережковский считал Петра родоначальником русской интеллигенции.
В основополагающей статье «Грядущий Хам» (1905 год) он пишет:
«я уже раз говорил и вновь повторяю и настаиваю: первый русский
интеллигент – Пётр. Он отпечатлел, отчеканил, как на бронзе монеты,
лицо своё на крови и плоти русской интеллигенции. Единственные
законные наследники, дети Петровы – все мы, русские интеллигенты.
Он – в нас, мы – в нём. Кто любит Петра, тот и нас любит; кто
его ненавидит, тот ненавидит и нас». В свете всего вышесказанного
мы видим, насколько велико в представлении Мережковского, значение
интеллигенции – и с социальной, и с религиозной точки зрения.
Возвращаясь к роману «Антихрист», отметим как постоянную черту
образа Петра его двузначность, двуплановость: соединение величия
и некоей неподлинности, фантасмогоричности. Как в самой личности
Петра, так и в его творении – Петербурге. Это постоянно подчёркивается
в романе: «Он окружил себя масками. И «царь-плотник», не есть
ли то маска – «машкерад на голландский манир»?
И не дальше ли от простого народа этот новый царь в мнимой простоте
своей, в плотничьем наряде, чем старые московские цари в своих
златотканых одеждах?» Петербург же – любимое детище Петра – самый
призрачный и ирреальный город в мире. Образ, каким он создан в
творчестве Достоевского, и который восходит к раскольничьим поверьям
петровских и полслепетровских времён: быть месту сему пусту!
«Великий, говорят, великий государь! – Восклицает в романе один
из противников петровских преобразований, архимандрит Федос. –
А в чём его величество? Тиранским обычаем царствует. Топором да
кнутом просвещает. На кнуте далеко не уедешь. И топор – инструмент
железный – не велика диковинка….Всё-то заговоров, бунтов ищет.
А того не видит, что весь бунт от него. Сам он первый бунтовщик
и есть…. Сколько людей переказнено, сколько крови пролито! … И
кровь не вода – вопиёт о мщении».
Позднее М. Волошин назовёт его «первым большевиком»:
Великий Петр был первый большевик, Замысливший Россию перебросить, Склонениям и нравам вопреки, За сотни лет к её грядущим далям. (1924 год).
Царь – бунтовщик, революционер, интеллигент. Противоречие, превратившееся
в единство, ставшее естеством самого Петра и всего им сделанного.
Царь сеет семена грядущих восстаний и революций, которые через
двести лет опрокинут дом Романовых, провидчески сказал Мережковский.
А дар предвидения вообще был ему свойственен. Уже весной 1917
года, когда все ликовали по поводу свержения самодержавия и торжества
свободы, он, по свидетельству многих очевидцев, с отчаянием говорил:
чему вы радуетесь? Нашу судьбу будет решать Ленин.
И вместе с тем дело Петра «отменить» невозможно. Давно известно,
что история не знает сослагательного наклонения, и созидательное
начало в ней неотделимо от разрушительного, а общий итог может
оказаться и оказывается совсем не таким, каким задумывался и предполагался.
Колоссальное здание Российской империи начал строить Пётр и строить
его в буквальном смысле на костях своих подданных. Потому и рухнет
эта империя, предостерегает Мережковский. До 1917 года оставалось
чуть больше десятилетия…
Петру в романе противостоит царевич Алексей. Ему писатель поручает
высказать свои заветные мысли и исторические предвидения. Алексей
не просто антагонист Петра. Он изображён как глубокий самобытный
мыслитель, как мученик, своей кровью искупающий преступления отца.
Реален ли исторически такой подход? Этот вопрос не слишком заботит
писателя, оказывается для него явно второстепенным. Историческая
проза Мережковского, несмотря на «точность деталей», не описательна,
не фактографична. Она в первую очередь – беллетризованная иллюстрация
авторских раздумий о смысле истории.
Например, исходя из трактовки царевича Алексея как мученика, мы
вправе задаться вопросом, не есть ли это скрытая аналогия с образом
Христа? Однако, неужели Христос искупает неведомый грех Бога-Отца?
Ведь в итоге получается, что мир сотворён не всемогущим Богом,
а Бого-дьяволом. Пётр у Мережковского назван Антихристом. Мысль
автора просто поразительна – не Антихрист ли Бог-Отец? В своё
время это называлось маркионитской ересью. Впрочем, отношение
Мережковского к так называемому «историческому» христианству всегда
было сдержанным. Особенно в первый период его творчества.
«Царевич может сделаться оружием в руках неприятельских, – думает
Пётр, – зажечь мятеж внутри России, поднять войною всю Европу
– и Бог весть, чем это кончится.
“Убить, убить его мало!” думал царь в ярости.
Но ярость заглушалась другим, доселе неведомым чувством: сын был
страшен отцу».
И вновь приходят на ум библейские параллели: вспоминается жертва
Исаака, предложенная Иеговой Аврааму. Вновь вопрос о жертве крови.
Это далеко не только историческая и социальная проблема. Это проблема
существа исторического процесса в целом.
Суд над царевичем и его казнь приобретают черты глубоко символических
событий, бросающих отсвет на всю последующую историю России. Именно
потому и страшен отцу сын, что слишком непрочным в сознании творца
выглядит то дело, которое начинает Пётр, слишком зависит оно от
роковых случайностей, в том числе и от того, кто будет наследником
царя. Где-то в глубине души Пётр сам сомневается в том, что делает
– и это сомнение окрашивает его деяния в какие-то ирреальные цвета,
придаёт им оттенок фантасмагоричности.
Как зловещий приговор отцу звучат (по тексту романа) слова царевича
на суде: «Кровь сына, кровь русских царей на плаху ты первый прольёшь!
– опять заговорил царевич и, казалось, что он уже не от себя говорит:
слова его звучали как пророчества. – И падёт сия кровь от главы
на главу, до последних царей, и погибнет весь род наш в крови.
За тебя накажет бог Россию». Если вспомнить 1917, а особенно ночь
на 17 июля 1918 года, то пророчество Мережковского просто потрясает.
История как цепь непрерывных возмездий – цепь, которая начинается
где-то в запредельности, а кончается здесь, в земной реальности.
Этой мыслью завершается трилогия, но не завершается путь постижения
писателем исторических судеб родины. Впрочем, определённый, так
сказать жанровый, перелом в творчестве Мережковского становится
очевидным. После первой русской революции он всё больше и больше
склоняется к открытой публицистике. Одна за другой выходят книги
его статей – «Не мир, но меч», «Больная Россия», «Грядущий Хам».
Название последней (и одноимённой статьи) стало символом отношения
Мережковского к участникам надвигающейся революции.
(Окончание следует)
(18651941) русский прозаик, поэт, литературный критик, переводчик, религиозный мыслитель. Родился 2 (14) августа 1865 в Петербурге в семье крупного чиновника столоначальника при императорском дворе, действительного тайного советника.
«Мережковский при всей огромности дарования нигде недовоплощен: не до конца большой художник, не до конца проницательный критик, не до конца богослов, не до конца историк, не до конца философ» это высказывание А.Белого точно схватывает сущность жизненной и творческой драмы одного из создателей той блистательной и болезненной эпохи в истории русской культуры, которую ныне привычно именуют «серебряным веком». Эпоха никогда не забывала о своем «отце-основателе», но честь ему неизменно воздавала с холодностью и оговорками. Безусловная слава Мережковского-писателя и мыслителя, яркого критика и публициста всегда оставалась двусмысленной и «недовоплощенной».
Известности у массовой аудитории Мережковский добился еще в 1880-е годы. К 1914 он уже автор 24-томного собрания сочинений, которое немедленно воцарилось на полках едва ли не каждой библиотеки России. «О Мережковском, пожалуй, все последние десять лет говорят: «наш уважаемый», «наш известный»», констатировал еще в начале 1910-х годах литератор А.Измайлов. Мережковского очень много читали, выход едва ли не каждой его книги становился событием но его никогда не «любили». Его проза, насыщенная культурными аллюзиями, мифологическими подтекстами и интеллектуальными конструкциями, стилистически и формально оказывалась вполне общедоступной, а порой и доходила до границы словесности сугубо массовой. Однако при этом художественный мир писателя всегда оставался закрытым, герметичным для непосвященного большинства.
Формальным признанием имя Мережковского обделено не было. В 1900-е годы его кандидатуру выдвигали в члены Академии наук но, в отличие от Чехова и Бунина, не избрали. На протяжении 19201930-х годов Мережковского неоднократно выдвигали на Нобелевскую премию по литературе но премию в 1933 получил опять же Бунин, а Мережковский довольствовался лишь почетной ролью номинанта.
Современники отдавали должное и широте его творческого дара, и культурному стремлению (начиная с подготовленных в 1890-е годы критических очерков и переводов древнегреческих трагиков и вплоть до самых последних работ) преодолеть средостение между «своим» и «чужим», представить мировую литературу без разделения на русскую и западноевропейскую. Стилистика прозы Мережковского, не грозившая трудностями при переводе, дополнительно способствовала популярности писателя на Западе. В начале века в Европе его имя произносилось среди первых литераторов эпохи на равных с именем Чехова. Исторические романы Мережковского в 19001930-е годы можно было найти в разных переводах во всех книжных магазинах «старого» и «нового» света. Но характерно: когда литературный обозреватель английской газеты «Daily Telegraph» в 1904 назвал Мережковского «достойным наследником Толстого и Достоевского», именно русская критика удивительно единодушно восстала против подобного «святотатства» и заставила писателя публично откреститься от похвал такого рода.
Мережковский был младшим сыном в семье, имевшей девять детей. С ранних лет ему довелось ощутить отчужденность от отца, от братьев и сверстников, сродниться с чувством одиночества, которое находило сокровенную отраду в поэзии уединения среди болотистых рощ и прудов наводненного тенями прошлого елагинского парка. Духовное становление Мережковского проходило под знаком горячей любви к матери, чей образ воссоздан в автобиографической поэме Старинные октавы (1906). (Психология сыновнего противостояния отцу десятилетия спустя подвергнется сложной интеллектуальной и духовной разработке и войдет сюжетной основой в большинство исторических сочинений Мережковского. Не случайно основатель психоанализа З.Фрейд в книге Леонардо да Винчи признает глубокое влияние Мережковского на свое учение).
Писать стихи Мережковский начал в 13 лет. Когда юноше было 15, отец организовал ему встречу с Ф.М.Достоевским, которому не понравились опыты начинающего стихотворца. «Чтобы хорошо писать, страдать нужно, страдать!» эти слова Достоевского еще не раз отзовутся в судьбе писателя, непрестанно обвиняемого в сухом интеллектуализме, холодности, схематизме, «головном» характере творчества, в отрешенности от «живой жизни» во имя культурно-мифологических «химер».
В 1883 Мережковский поступает на историко-филологический факультет Петербургского университета, по окончании которого четыре года спустя он окончательно решает посвятить себя исключительно литературному труду.
В январе 1889 Мережковский вступает в брак с З.Н.Гиппиус, будущей крупной писательницей, ставшей на всю жизнь его ближайшим другом, идейным спутником и соучастницей духовных и творческих исканий. Союз Мережковского и Гиппиус, пожалуй, наиболее известный творческий тандем в истории русской культуры «серебряного века». Как свидетельствует супруга писателя, за полвека они не расставались «ни на один день». Современники не имели общего мнения о том, кто в этом союзе был «ведущим», а кто «ведомым», кто, в действительности, генерировал идеи. Ясно, тем не менее, одно: оригинальная религиозно-философская концепция Мережковского есть плод их совместной «духовной работы». З.Н.Гиппиус так оценивала свою идейную близость с мужем: «...случалось мне как бы опережать какую-нибудь идею Д[митрия]С[ергеевича]. Я ее высказывала раньше, чем она же должна была встретиться на его пути. В большинстве случаев он ее тот час же подхватывал (так как она, в сущности, была его же), и у него она уже делалась сразу махровее , принимала как бы тело, а моя роль вот этим высказываем ограничивалась, я тогда следовала за ним».
Свою публичную литературную деятельность Мережковский начал в 1881 как поэт. В начале 1880-х годах он сближается с С.Я.Надсоном, имя которого стало нарицательным для обозначения целого десятилетия в истории русской поэзии эпохи «безвременья». Будущий основоположник русского модернизма отдает дань свойственным надсоновской поэзии нотам «скорбной» гражданственности, сомнений, разочарований в высоких устремлениях, минорной интимности, переходам от декларативной идейности к исповедальным интонациям, от поэтических абстракций к пышной декларативности сравнений. Испытав в университете влияние «духовных вождей» русского студенчества 1880-х, философов-позитивистов Конта, Милля, Спенсера, Мережковский вторит в своей поэзии ходовой народнической идеологии. Тому способствует знакомство с А.Н.Плещеевым и ведущими литераторами-народниками Н.К.Михайловским и Г.И.Успенским, благодаря которым ему открывается путь на страницы «толстых» журналов.
Однако уже с этого момента начинается раздвоение, характерное для личности и творчества писателя. Оно будет порождать «метафизические противопоставления», метания из одной крайности в другую, желание примирить антихристианский нигилизм Ф.Ницше с наследуемыми у Вл.Соловьева чаяниями Вселенской Церкви, тяжеловесный художественный язык «восьмидесятничества» и мистические откровения «конца века».
Уже в первой книге Мережковского, принесшей ему известность, Стихотворения (18831887 ) (1888) намечен пересмотр народнических заветов: Напрасно я хотел всю жизнь отдать народу: / Я слишком слаб; в душе ни веры, ни огня ....
Окончательный перелом в сознании и творчестве Мережковского приходится на 1892. Именно тогда происходит поворот к религиозному миросозерцанию и ощущению мистической тайны бытия. С этого момента Мережковский становится последовательным борцом с позитивизмом и материализмом.
Прежде всего этот перелом запечатлен в книге стихов с программным для зарождающейся модернистской эпохи названием Символы. (Песни и поэмы ) (1892) и в лекции О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы . Эта лекция, изданная в том же году отдельной книгой, была воспринята как манифест нового литературного движения. Мережковский обозначает здесь три составляющие нового искусства: мистическое содержание, символы и «расширение художественной впечатлительности». И хотя подобное эстетическое задание отличалось некоторой размытостью, носители заступающей на историческую сцену символистской эстетики откликнулись на нее равно как и на новый поэтический голос Мережковского с подлинным энтузиазмом.
Однако вскоре популярность стихов Мережковского стала оцениваться скорее как симптом невзыскательности массового вкуса (примерно так, как более поздняя мода на К. Бальмонта или И.Северянина). Закономерно меняется и характер жанровых предпочтений самого писателя. Отныне на передний план его творчества выходит проза литературно-критическая, публицистическая и, разумеется, художественная.
Впечатляющее многообразие прозаических сочинений Мережковского цементируется цельной религиозно-философской концепцией, которая постепенно складывается во второй пол. 1890-х, окончательно оформляется в начале 1900-х и просуществует без существенных изменений до последних дней жизни писателя. Этот тип миросозерцания, названный «новым религиозным сознанием» знамение так называемого культурно-религиозного «ренессанса» на рубеже XIXXX вв. в равной степени противостоял и светскому позитивизму, материализму XIX в., и церковной христианской традиции. Вся духовная история человечества мыслится Мережковским как противостояние, антитеза двух начал, двух «бездн» «бездны плоти» и «бездны духа». «Бездна плоти» воплощена в язычестве, в античном культе героической личности в «человекобожестве», пренебрегающем «духом». «Бездна духа» в историческом христианстве, в аскетизме, пренебрегающем «плотью». Оба начала несовершенны. Необходима подлинная «духовная революция» слияние, синтез двух «бездн», двух «правд». Это слияние возможно, по Мережковскому, лишь в будущей «новой Церкви». Эту церковь Мережковский и Гиппиус именовали церковью «третьего завета». Концепция «третьего завета» была заимствована ими на рубеже 18901900-х годов у итальянского еретика XII в. аббата Иоахима Флорского. Согласно этой концепции, «первым заветом» стал «Ветхий Завет» Бога-Отца, «вторым» «Новый Завет» Бога-Сына, Иисуса Христа, а ныне предстоит явиться «третьему завету» завету Святого Духа, завету Свободы вослед заветам Закона и Благодати. Так исполнится сокровенная Тайна Святой Троицы и, соответственно, исторический процесс достигнет свой цели, время будет исчерпано, и настанут «новое небо и новая земля» обетованного в Апокалипсисе, библейской Книге Откровения, тысячелетнего Царства Божия.
Пророком грядущего Царства «третьего завета» и осознавал себя Мережковский. Вся его писательская и общественная деятельность отныне была направлена на проповедование подобных истин. Без осознания этой доктрины невозможно понимание ни его сочинений, ни фактов биографии. Само мышление Мережковского строится по «троичному» закону диалектики: всякое явление действительности должно быть представлено как конфликт тезиса и антитезиса, вершащийся синтезом.
Как человек эпохи символизма, Мережковский всегда оставался «жизнестроителем», носителем идеи «жизнетворчества», не желал признавать никакой грани между «идеями» и «реальностью», всегда стремился воплотить в жизнь литературные и философские сюжеты, а в беллетристике навязать своим историческим персонажам к примеру, византийскому императору Юлиану Отступнику и Леонардо да Винчи, Петру I и его сыну царевичу Алексею, Наполеону и Данте те мысли и поступки, которые соответствовали бы не «исторической правде» («мелкой» и «неистинной», по Мережковскому), а той символической роли, которая «полагается» им по законам его собственного религиозного мифа «третьего завета».
С целью проповеди своих идей Мережковский и Гиппиус вошли в 1901 в число инициаторов Петербургских религиозно-философских собраний. Эти Собрания знаменовали собой первый в русской истории послепетровской эпохи опыт неформальной встречи светской «богоискательской» интеллигенции и представителей «официальной» Русской Церкви. С целью издания протоколов Собраний Мережковские в 1902 основывают специальное издание журнал «Новый путь». Собрания еще раз выявили неготовность сторон (и в первую очередь интеллигенции) слышать своих оппонентов, трагический конфликт светского и церковного «языков», существующих как бы в параллельных реальностях и неспособных пересечься. Диалог естественным образом себя изжил. И когда по решению обер-прокурора Св.Синода К.Победоносцева в 1903 Собрания были закрыты, это практически не вызвало возражений.
Мережковские решают переориентировать религиозное «творчество» со сферы внешней, публичной проповеди, на сферу внутреннюю, «таинственно-мистическую». После закрытия Собраний они создают свою «домашнюю церковь», разрабатывают особый чин «литургии» и прочих «священнодействий». Это должно было стать зерном, из которого вскоре произрастет древо новой «церкви» «Святого Духа».
Вслед за Вл.Соловьевым и одновременно с В.Розановым Мережковский заявил о себе как о пионере религиозно-философского подхода к анализу литературы, вошел в число наиболее активных и читаемых символистских критиков. Он сделал очень много для формирования символистского образа классической традиции. Вершинные достижения Мережковского-критика к примеру, книга статей о русских и зарубежных писателях Вечные спутники (1897), трактаты Л.Толстой и Достоевский (19011902) и Судьба Гоголя (1903) воспринимались как ярчайшие литературные события и заметно повлияли на критику и литературоведение XX века. Фигуры классических авторов извлекались здесь из тенденциозного общественно-исторического контекста и подавались по законам «аристократической», субъективно-психологической критики как вневременные «кормчие звезды» человечества, универсальные символы, запечатлевшие в своем творчестве вечные законы духа (Л.Толстой «тайновидец плоти», его антипод Достоевский, «тайновидец духа» и т.д.).
С середины 1890-х Мережковский начал движение к крупной исторической прозе. Своеобразной лабораторией будущих исторических романов стали написанные в 18951897 «новеллы XV века», в которых писатель одним из первых в русской литературе использовал прием сквозной стилизации, создал произведения, целиком соответствующие по форме изображавшейся в них эпохе.
Но в литературу Мережковский вошел прежде всего как создатель новаторского типа исторического романа, особой вариации мировоззренческого «романа мысли». В научной литературе такой роман называют обычно историософским (то есть, романом не об истории, а о философии истории).
Первым и наиболее удачным опытом подобного рода стала романная трилогия Христос и Антихрист (18951896) история жизни апологета язычества византийского императора IV в. Юлиана; Воскресшие боги. (Леонардо да Винчи) (1901) о великом итальянском художнике и ученом эпохи Возрождения; Антихрист. Петр и Алексей (19041905) о Петре I и его сыне). Главные герои этих романов под масками исторических деятелей воплощают почти «космическую» борьбу вечно противостоящих в истории универсальных начал тех же языческой, «антихристовой» «бездны плоти» и «христовой» «бездны духа», «извращенной» аскетизмом исторического христианства. Все происходящее так или иначе воспроизводит этот индивидуальный миф Мережковского. Герои здесь исключительно бьются над поиском «последних истин». При этом вырабатывается и особый тип романной поэтики, техники его построения: огромную роль играют символические лейтмотивы, игра цитатами из реальных исторических памятников, перемешанных с псевдоцитатами (т.е. авторскими стилизациями «под памятники»). Сознательный отказ от историко-психологического правдоподобия в изображении деятелей прошлого здесь как бы компенсируется «археологической» дотошностью в подаче исторических деталей внешней обстановки, «костюмной» декоративностью и верностью летописным документам.
Практически так же будут выстроены и последующие циклы исторической прозы Мережковского: трилогия о русской истории (пьеса Павел I (1908), романы Александр Первый (19111913) и 14 декабря (1918)) и созданная уже в эмиграции дилогия о «прообразах» христианства в древнем Египте, прозревающем из толщи веков будущую истину «третьего завета» (два романа: Рождение богов. Тутанкамон на Крите (1924) и Мессия (19261927)).
Мережковский дал литературе модернизма образец романного цикла как особой повествовательной формы и способствовал становлению того типа экспериментального романа, который отзовется в лучших произведениях А.Белого, Ремизова, а в Европе Дж.Джойса и Томаса Манна.
Именно благодаря Мережковскому с 1900-х существенно меняется статус исторического романа. Наследие Мережковского отразилось в романистике В.Брюсова, А.Толстого, М.Булгакова, М.Алданова.
В 1906 деятельность правительства по искоренению последствий русской революции 1905 вынудила Мережковских отправиться в «первую», более чем двухлетнюю, парижскую эмиграцию. В Париже супруги предпринимают тщетные усилия по вербовке новых членов своей «церкви» и сближаются с видными эсерами (членами партии социалистов-революционеров) в том числе Б.Савинковым, чьи террористические методы после октябрьской революции 1917 они станут активно пропагандировать как действенное средство антикоммунистической борьбы.
Позиция Мережковского по поводу событий 19051906 отразилась в статье Грядущий хам (1905), в которой он предостерег общество от недооценки мощных сил, препятствующих религиозному и социальному освобождению. По Мережковскому, интеллигенции, воплощающей «живой дух России», противостоят силы «духовного рабства и хамства, питаемые стихией мещанства, безличности, серединности и пошлости». Здесь писатель предвосхищает большевистскую личину «грядущего хамства, идущего снизу хулиганства, босячества, черной сотни».
В ряде публикаций 19061908 (в том числе сборниках статей Царь и революция (изд. по-франц. в 1907) и Не мир, но меч ; К будущей критике христианства (1908)) Мережковский выстраивает свою общественно политическую концепцию революционного мистицизма. С его точки зрения, политической революции в России и мире (а Россия провозвестник мировых процессов) должна предшествовать «революция духа», согласное приятие русской интеллигенцией «истины» третьего завета иначе политическая революция обернется торжеством «грядущего хама» и злейшей тиранией. Так идеалы «безбожного» интеллигента-революционера сливаются с чаяниями мистика-«сектанта».
Горячо приветствовав февральскую революцию 1917 и приход к власти Временного правительства, октябрьский переворот Мережковский категорически не принял. Для писателя это событие знаменовало разгул «хамства», воцарение «народа-Зверя», смертельно опасного для всей мировой цивилизации, торжество надмирного зла. Большевизму он противопоставляет заветы «революционной демократии», восходящей к декабристам и хранимые подлинной русской интеллигенцией.
В январе 1920, выехав в прифронтовую зону для «чтения лекций красноармейцам по истории и мифологии древнего Египта», Мережковские тайно перешли приграничную линию фронта и навсегда покинули Россию. Оказавшись в Польше, они развернули активную деятельность по организации антибольшевистской пропаганды и «крестового похода» против Советской России. Потерпев фиаско и не сумев убедить главу польского правительства Ю.Пилсудского отказаться от перемирия с большевиками, Мережковские окончательно переезжают в Париж.
Во Франции из регулярных воскресных собраний эмиграции в доме Мережковских возникает литературно-философское общество «Зеленая лампа» (19271939) один из центров интеллектуальной жизни русского Парижа. Читателям постепенно открывался новый Мережковский. Из его творчества вытеснялась собственно художественная литература, а на передний план выдвигались произведения в жанре религиозно-философского трактата (Тайна трех. Египет и Вавилон (1923); Тайна Запада. Атлантида Европа (1930), Иисус Неизвестный (1934)) и примыкавшие к ним биографические эссе (Наполеон (1929); Данте (1939)), циклы конца 1930-х 1941 гг. (Лица святых от Иисуса к нам , Реформаторы , Испанские мистики ). Здесь в наследованной от Ницше стилистике афоризмов-«заклинаний» проводится все та же философия истории концепция «трех заветов», но усиливаются апокалиптические предчувствия, углубляется ощущение катастрофичности современного мира, которому грозит участь «новой Атлантиды» (книги Мережковского напрямую перекликаются с пессимистическими идеями знаменитого труда Г.Шпенглера Закат Европы ). Все глубже уходит мыслитель в историю, дабы в прошедших веках уловить предчувствия нового «откровения» Св. Духа.
Опасения экспансии со стороны Советской России и стремление найти этому противовесы периодически заставляли Мережковского возлагать надежды на лидеров диктаторского типа. Те «метафизические высоты», с каких Мережковский взирал на фашистских лидеров, зачастую приводили к неразличению «добра» и «зла» в «земной» плоскости, к желанию навязать диктаторам роль «божественных мессий», которым предстоит «святой долг» борьбы с «антихристом» большевистской опасностью ради «подготовки» мира к пришествию тысячелетнего «Царства Св. Духа», к воплощению в жизнь утопического проекта писателя. В 1936 Мережковский получает стипендию от правительства Муссолини для работы над книгой о Данте и принимается как оказалось, вновь безрезультатно убеждать «дуче» начать «священную войну» с Советской Россией. В одном из писем Мережковского Муссолини встречаются более чем красноречивые слова: «...лучшее из всех свидетельств о Данте, самое правдивое и самое живое это Вы. Дабы понять Данте, надо им жить, но это возможно только с Вами, в Вас... Ваши души изначально и бесконечно родственны, они предназначены друг для друга самой вечностью. Муссолини в созерцании это Данте. Данте в действии это Муссолини..». Возможная победа Гитлера над сталинизмом пугала Мережковского меньше, чем порабощение Европы большевиками. И в 1939 Мережковский выступает по парижскому радио с приветственной речью Гитлеру, в которой он сравнивает «фюрера» с «Жанной д"Арк, призванной спасти мир от власти дьявола.». «Он ощущал себя предтечей грядущего Царства Духа и его главным идеологом... Диктаторы, как Жанна д"Арк, должны были исполнять свою миссию, а Мережковский давать директивы. Наивно? Конечно, наивно, но в метафизическом плане, где пребывал Мережковский, «наивное» становится мудрым, а «абсурдное» самым главным и важным; так верил Мережковский», отмечал в своих воспоминаниях Ю.Терапиано.
И тем не менее русская эмиграция не поняла и не приняла политической позиции Мережковского писатель был подвергнут бойкоту. Переживший к исходу 1930-х постепенное сокращение круга читателей и умерший в нищете в оккупированном Париже 7 декабря 1941, Мережковский не избег ни многих утопических иллюзий, ни тягот своего века. На его похоронах присутствовало лишь несколько человек, а могильный памятник был поставлен на подаяние французских издателей.
Мережковский Д.С. Собрание сочинений в 24-х тт . СПб., Типография Т-ва И.Д.Сытина, 1914
Мережковский Д.С. Собрание сочинений в 4-х тт . М., «Правда», 1990
Вадим Полонский
Rosenthal B.G. D.S. Merezhkovsky and the Silver Age. The Development of a
Revolutionary Mentality
. Hague, 1975
Pachmuss T. D.S. Merezhkovzky in exile. The master of the genre of biographie
romancee
. NY Bern Frankfurt/M Paris. 1990
Бердяев Н.А. Новое христианство
(Д.С
.Мережковский
) // Бердяев Н. О русской
философии
. Ч. 2, Свердловск, 1991. С.127148
Д.С.Мережковский
. Мысль и слово
. Сборник литературоведческих статей о Мережковском. М.: «Наследие», 1999
Найти "МЕРЕЖКОВСКИЙ, ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ " на
Мережковский Дмитрий Сергеевич (2.08.1865-7.12.1941), исторический романист, поэт, драматург, переводчик, критик. Примерно в 13 лет, подражая «Бахчисарайскому фонтану» Пушкина, сочинил первое стихотворение. Тогда же написал и первую критическую статью - классное сочинение «Слово о полку Игореве». Первые стихи напечатал в 15 лет в сборнике «Отклик» (1881) и в «Живописном обозрении».
В первом еще подражательном сборнике «Стихотворения». 1883-1887» (1888) Мережковский стоит «на распутьи» в мучительных размышлениях над проблемой существования Бога, личного бессмертия, добра и зла, своего общественного призвания. Вторая книжка стихов Мережковского - «Символы (Песни и поэмы)» (1892), «замечательна разносторонностью своих тем.
Третий сборник стихов Мережковского «Новые стихотворения» (1896) был проникнут ожиданием «нового порока», «дерзновением» («Дети ночи»), стремлением полюбить жизнь в больших и малых проявлениях («Пчелы»), полюбить жизнь как «вечную игру» («То, чем я был»), измеряя ее «новой, бесцельной красотой» («Голубое небо»).
В четвертом поэтическом сборнике Мережковского «Собрание стихов. 1883-1903» (1904) новых стихотворений оказалось немного («Трубный глас», «Детское сердце», «Молитва о крыльях» и др.). Если в третьем сборнике только теоретически декларировалось желание влюбиться в «демоническую» антиномичность бытия, то здесь мы видим попытку пристального вглядывания через собственный жизненный опыт в образцы этой таинственной двойственности («Двойная бездна»). В сборнике прослеживается и поворот к соборному христианству («О, если бы душа полна была любовью», «Трубный глас» и др.). Последний сборник «Собрание стихов. 1883-1910» (1910) был повторением сборника предыдущего, за исключением поэмы «Старинные октавы».
В «Северном вестнике» публикуется первый роман «Отверженный» (1895; впоследствии «Смерть богов. Юлиан Отступник»). Роман о последнем драматическом периоде раннего христианства в лице трагической фигуры имп. Юлиана явился первой частью трилогии «Христос и Антихрист» (1895-1905). Продолжение трилогии - романы «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» (1902) и «Антихрист. Петр и Алексей» (1904-05). Вслед за первой трилогией он пишет трилогию «Царство зверя» - уже на материале исключительно русской истории. В нее вошли драма «Павел I» (1908), а также романы «Александр I» (1911-12) и «14 декабря» (1918; первоначально «Николай I и Декабристы»).
В 1900-05 начинается история «главного» дела Мережковского: происходит формирование неохристианской концепции, создается знаменитое религиозное «троебратство» (Мережковский, его жена З. Гиппиус, Д. В. Философов), задается программа последующей религиозно-общественной деятельности. Исследование «Л. Толстой и Достоевский. Жизнь, творчество и религия» (1900-02. Вообще конец века для Мережковского, как, впрочем, и для мн. др. символистов, является концом всемирной истории и началом нового апокалипсического, «сверхисторического пути», т. е. религии.
Несмотря на огромный объем написанного, более 60 томов сочинений, наиболее ценную часть творческого наследия Мережковского представляют не романные трилогии, принесшие ему европейскую и мировую известность, не поэзия и драматургия, а литературно-психологические и религиозно-философские исследования. Уже в ранних своих статьях он пишет о Лонге, Флобере, Руссо, Сервантесе, Кальдероне, Монтене, Марке Аврелии, Ибсене, Гончарове, Майкове, Пушкине и т. д. Многие из этих работ вошли в сборник «Вечные спутники» (1897). Позднее появляются знаменитые исследования «Толстой и Достоевский», «Судьба Гоголя» (1903), «Гоголь и черт» (1906), такие сборники литературно-философских статей, как «Грядущий Хам» (1906), «Не мир, но меч», «В тихом омуте» (оба - 1908), «Больная Россия» (1910), «Было и будет» (1915), «Зачем воскрес» (1916), «Невоенный дневник» (1917). Им пишутся большие статьи о Достоевском - «Пророк русской революции» (1906), Серафиме Саровском - «Последний святой» (1907), Лермонтове - «М. Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества» (1909). В 1915 Мережковский издает брошюры «Завет Белинского» и «Две тайны русской поэзии. Некрасов и Тютчев» (1915), в которых пересматривал традиционные представления о русских писателях.
Октябрь 1917 Мережковский воспринял как приход царства антихриста, и 24 дек. 1919 переезжает за границу. В Париже Мережковские организуют литературно-философское общество «Зеленая Лампа» (1927-39), сыгравшее заметную роль в интеллектуальной жизни первой волны эмиграции. На собрания «Лампы» приглашались по списку. Там часто бывали И. Бунин, Б. Зайцев, Г. Федотов, Л. Шестов, Г. Адамович, В. Ходасевич, А. Ремизов, Н. Бердяев и мн. др. Интенсивность творчества Мережковского в эмиграции не только не уменьшается, но становится все более напряженной. Он публикует здесь свои последние исторические роман «Рождение богов. Тутанхамон на Крите» (1925), «Мессия» (1927). Трилогия «Тайна трех: Египет и Вавилон» (1925), «Тайна Запада. Атлантида-Европа» (1930) и огромный трактат «Иисус Неизвестный» (1932).
В последние годы жизни Мережковский приступает к составлению трех агиографических трилогий, по-новому интерпретированных «житий святых»: «Павел Августин» (1937), «Св. Франциск Ассизский» (1938), «Жанна д’Арк и Третье Царство Духа» (1938). Эти произведения опубликованы им под общим названием «Лица святых от Иисуса к нам». В предвоенные годы Мережковский совместно с Гиппиус работает над пьесой из русской истории «Дмитрий Самозванец». Воссоздать лик Серафима Саровского Мережковский уже не успел, он скоропостижно скончался 7 дек. 1941.
Религиозная метафизика Мережковского, какой бы фантастической она ни казалась сегодня, была органическим миром писателя. Символизм, не как способ изображения жизни и бытия, а как ведущий метод интерпретации человека, космоса и истории, был характернейшей чертой как Мережковского, так и мн. др. писателей-современников. Мережковского постоянно волновали вопросы онтологии бытия, двойственности и антиномичности, религиозной историософии и христианского символизма. Раскрытие по евангельским словам «Неведомого» христианского Бога являлось главным пафосом всей его жизни. Однако творчество Мережковского, пронизанное идеей будущей вселенской религии, вольно или невольно включало в себя и «прелесть» сектантства, кружковщины, уклонение от исторической Церкви.
М. Алданов
Д. С. Мережковский
Некролог
О каждом человеке нетрудно написать некролог обычного типа, -- с надлежащими прилагательными в надлежащих степенях. Обычай подобных некрологов очень стар и очень хорош. Но именно о Д. С. Мережковском так писать не хочется. В громадном большинстве случаев краткие строки некролога навсегда завершают то, что о человеке пишется: больше о нем никто писать не будет, -- кончено. Тогда действительно de mortuis...{О мертвых [либо хорошо, либо ничего] (лат .).} Однако Дмитрий Сергеевич был явлением исключительным: писать о нем будут долго, он имеет на это достаточно прав. Это был человек выдающегося ума, блестящего литературного и ораторского таланта, громадной разностороннейшей культуры, -- один из ученейших людей нашей эпохи. Судьба послала ему долгую жизнь. Он проработал в литературе почти шестьдесят лет, написал несколько десятков толстых книг, встречался со всеми своими известными современниками: ведь он разговаривал с Достоевским! (из писателей, видевших Достоевского, теперь остается в живых один А. А. Плещеев). Д. С. Мережковский был знаменит: его книги, особенно "Леонардо да Винчи", в разных переводах можно было найти в любом книжном магазине любой страны Европы. Добавлю, что свою известность он носил в высшей степени просто: генеральство было совершенно чуждо его натуре. Это была одна из многих привлекательных его черт. Служил он всю жизнь одной -- очень большой -- идее. Но и ее сторонники, и люди ей чуждые относились к этому служению сдержанно, -- чтобы не сказать холодно. Д. С. Мережковский всю жизнь мечтал о "последователях". Их у него не было. Факт сам по себе обычный и, по общему правилу, не столь важный: у кого же из русских писателей были последователи? Едва ли не у одного Толстого, да и то лишь как у автора "Так что же нам делать". Но другие русские писатели к этому и не стремились, тогда как Д. С. Мережковский об отсутствии у него последователей говорил иногда как о кресте своей жизни. Ему часто казалось, что его просто не принимают всерьез. И в этом действительно была доля правды. -- "Я был молод, -- вспоминал Мережковский в своей прекрасной статье о посмертном издании писем Чехова, -- мне все хотелось поскорее разрешить вопросы о смысле бытия, о Боге, о вечности. И я предлагал их Чехову как учителю жизни. А он сводил на анекдоты да на шутки. Говорю ему, бывало, о "слезинке замученного ребенка", которой нельзя простить, а он вдруг обернется ко мне, посмотрит на меня своими ясными, не насмешливыми, но немного холодными, "докторскими" глазами и промолвит: "А кстати, голубчик, что я вам хотел сказать: как будете в Москве, ступайте-ка к Тестову, закажите селянку, -- превосходно готовят -- да не забудьте, что к ней большая водка нужна". Мне было досадно, почти обидно: я ему о вечности, а он мне о селянке". Самое интересное в этом воспоминании одного знаменитого писателя о другом то, что сам Мережковский признавал Чехова совершенно правым: "Надо было наговорить столько лишнего, сколько мы наговорили, надо было столько нагрешить, сколько мы нагрешили святыми словами, чтобы понять, как он (Чехов) был прав, когда молчал о святыне. Зато его слова доныне -- как чистая вода лесных озер, а наши, увы, слишком похожи на трактирные зеркала, засиженные мухами, исцарапанные надписями". Это была его очень привлекательная черта: он признавал свои ошибки и сознавался в них откровенно, -- каялся. Казалось бы, по всей его природе Чехов должен был быть вполне ему чужд, должен был даже возбуждать у него враждебность. Им и спорить было не о чем. Как почти все русские критики и историки, Д. С. Мережковский считал религиозность основной, главной и драгоценнейшей чертой русской литературы. Но Чехов, один из величайших и самых "русских" писателей России, никак не укладывался в его основное положение. -- "Интеллигенция пока только играет в религию и главным образом от нечего делать. Про образованную часть нашего общества можно сказать, что она ушла от религии и уходит от нее все дальше и дальше, что бы там ни говорили и какие бы религиозно-философские общества ни собирались. Хорошо ли это или дурно, решить не берусь, скажу только, что религиозное движение, о котором вы пишете, -- само по себе, а современная культура -- сама по себе, и ставить вторую в причинную зависимость от первого нельзя", -- писал Чехов Дягилеву 30 декабря 1902 года. В другом, позднейшем письме, написанном за год до его смерти, он на предложение войти в редакцию "Мира Искусства" дал следующий ответ: "Как бы это я ужился под одной крышей с Д. С. Мережковским, который верует определенно, верует учительски, в то время, как я давно растерял свою веру и только с недоумением оглядываюсь на всякого интеллигентного верующего. Я уважаю Дмитрия Сергеевича и ценю его и как человека и как литературного деятеля, но ведь воз-то мы, если б и повезли, то в разные стороны". Однако так же трудно было Д. С. Мережковскому сговориться с людьми религиозного душевного уклада. И уж совсем невозможно было понять и оценить его людям, занимавшимся практической политикой. Не могу возлагать за это ответственность ни на тех, ни на других. Имели тут значение некоторые особенности таланта Д. С. Мережковского (и даже, если угодно, его стиля), а главное, те весьма неожиданные практические выводы, которые он нередко делал из своих идей. Так, достаточно сказать, что одну из своих главных философско-политических работ он закончил когда-то словами: Мы надеемся не на государственное благополучие и долгоденствие, а на величайшие бедствия, может быть гибель России как самостоятельного политического тела и на ее воскресение как члена вселенской Церкви, теократии". В любой стране "политическая карьера" человека, который печатно высказал бы такую надежду , могла бы считаться конченной. В России "политическая карьера" Мережковского после этих слов не кончилась -- только потому, что она фактически никогда и не начиналась. Помимо безответственности была в этих словах и непоследовательность: если бы их автор был последователен, то он в октябрьских событиях 1917 года и в том, что за ними последовало, должен был бы, собственно, усмотреть великую радость. Как все мы, он радости не усмотрел. Не буду говорить о политической деятельности Мережковского в эмиграции, особенно в самое последнее время. Не буду говорить отчасти и потому, что мне всегда была и остается непонятной связь философских идей Д. С-ча с его идеями практическими. Порознь и те, и другие были вполне понятны, но этот "приводный ремень" от меня неизменно ускользал. Быть может, сам он его чувствовал вполне ясно. Однако и в этом мы уверены быть не можем, так как его религиозно-философские мысли оставались неизменными в течение всей его жизни, а практические выводы менялись беспрестанно. Литературные его заслуги очень велики. Книга "Толстой и Достоевский" положила начало новейшей русской критике. Так называемые "формалисты" ему обязаны очень многим, хоть они об этом не говорят и хоть он по всему своему умственному укладу был чрезвычайно от них далек. Если Н. Н. Страхов первый поставил на должную высоту Толстого, то Мережковский первый, с чрезвычайной проницательностью и остротой, понял и объяснил его художественные приемы (точнее, часть его художественных приемов). В ту пору, когда большая часть русской критики била земные поклоны перед художественным гением Максима Горького, Мережковский писал: "Тем простодушным критикам, которые сравнивают Горького как художника с Пушкиным, Гоголем, Л. Толстым, Достоевским, все равно ничего не докажешь. Вообще босяк с поэзией напоминает Смердякова с гитарой, а русская критика -- хозяйскую дочку Машеньку в светло-голубом платье с двухаршинным хвостом, которая слушала и восхищалась: "Ужасно я всякий стих люблю, если складно". -- "Стихи вздор-с", -- возразил Смердяков. -- "Ах, нет, я очень стишок люблю", -- ласкалась Машенька". -- Но и как критик Д. С. был неровен. "Конь бледный" показался ему великим произведением искусства: "Если бы меня спросили сейчас в Европе, какая книга самая русская и по какой можно судить о будущем России, после великих произведений Л. Толстого и Достоевского, я указал бы на "Конь бледный"". -- Он нашел в произведении Роп-шина "классическую простоту", "горную ясность"! Все же, думаю, его в этом случае подкупила тенденция романа, совпавшая, по крайней мере отчасти, с теми практическими выводами, которые в тот момент сам он делал из своего философского учения. У Д. С. Мережковского вдобавок всю жизнь была слабость к тому, что можно называть "литературной политикой". Вероятно, тогда какой-либо сложный замысел этой политики был связан с возвеличением "Коня бледного". Эта любовь к литературной политике, кажется, была почти чужда большей части русских классических писателей (ее, например, просто трудно было бы себе представить у Лермонтова или у Толстого). Из писателей современных ее не было и нет у Бунина, Зайцева, Куприна. Очень сильна она была у Горького, у Ходасевича. Как бы то ни было, где бы Д. С. ни жил, в Петербурге ли, в Париже или в Италии, при нем немедленно создавался литературный кружок. И почему-то неизменно выходило так, что большинство в кружке составляли люди совершенно чуждые идеям Д. С. Мережковского, даже не интересовавшиеся этими идеями. Состав его кружков всегда был "текучий" и в общем вполне случайный. Литературная политика создавала ему врагов, особенно в былые петербургские времена. К этому он относился равнодушно: я не видал писателя, менее чувствительного, чем он, к брани противников, меньше заботившегося о критике вообще. Несмотря на всю его известность, Мережковского в России во все времена ругали гораздо больше, чем хвалили. Ругали больше всего за театральные пьесы, ругали за статьи, ругали и за исторические романы. Полагалось поругивать даже "Леонардо", -- одну из не столь уж многочисленных русских книг, ставших общеизвестными на Западе. А. И. Герцен писал в 1869 году своей дочери: "Вчера мы все обедали у Гюго... Старик очень мил. Саша (А. А. Герцен. -- М. А. ) судит по-студенчески, в Гюго есть сумасшедшие стороны, -- но неужели он может думать, что можно владеть умами во Франции с 1820-х годов до 69 -- даром!". Эта, в общей форме верная, мысль может быть отчасти отнесена и к знаменитой книге Д. С. Мережковского: ее читают больше сорока лет на очень многих языках, -- "даром" такого не бывает. Как исторический романист Д. С. вольно обращался с историей, но (в отличие от некоторых других исторических романистов) никак не потому, что не знал ее, а потому, что его религиозная идея была ему дороже и исторической правды, и художественной ценности романа. Она вообще была ему дороже всего. Мнение о религиозном характере всей русской литературы условно (хотя в общем верно): ведь слова "религиозный характер" не очень определенны: когда нужно, под ними понимают "общественное служение", и в общую схему укладываются Тургенев, Салтыков, даже Горький. Если нет и этого (или в тех случаях, когда этого не так уж много), говорят о "светлом приятии жизни" (Пушкин), о "любви и жалости к людям" (тот же Чехов). Но Д. С. Мережковский действительно принадлежал к очень большому, широкому и мощному религиозному течению, которое в русской литературе идет от заволжских старцев и от еще не оцененного изумительного Вассиана Косого (в миру князя Патрикеева) к Толстому и Достоевскому. Выделялся он в этом течении тем, что в свои мысли вносил слишком много литературщины. Грешил этим и Достоевский, хотя неизмеримо меньше. Чисто стилистические, словесные приемы Мережковского достаточно известны, -- их нередко пародировали. Между тем именно ему они никак не были нужны: он был природный стилист, стилист "божьей милостью". Чтобы не быть голословным, приведу лишь несколько его строк: "К старому, презренному сосуду, в котором заключается драгоценная влага, прикоснулся он (Достоевский. -- М. А. ) с любовью, и на огонь его любви ответным огнем закипела казавшаяся мертвою влага; стеклянные стенки сосуда задрожали, зазвенели; тысячелетняя плесень вдруг отпала от них, как чешуя -- и снова сделались они прозрачными: мертвые, мертвящие догматы снова сделались живыми, живящими символами". Так до него писали немногие. Работник он был необыкновенный. Трудился всю жизнь, не отдыхая: только кончал одну книгу, как начинал другую. Лишь очень редко позволял себе две-три недели отдыха, где-нибудь в теплых краях. Его считали чисто книжным человеком, -- А. И. Куприн с юмором говорил, что природа вызывает в Мережковском ужас. Это было неверно. Д. С. по-настоящему обожал юг, солнце, море и в пору своих "каникул" наслаждался ими необыкновенно. В этой обстановке он становился особенно мил и привлекателен. Личное обаяние, то, что французы называют charme-ом, у него вообще было очень велико, по крайней мере в лучшие его минуты. Это было связано с огромной его культурой и с его редким ораторским талантом. Порою казалось, что он говорит еще лучше, чем пишет. Из года в год, весь день Д. С. Мережковский проводил за напряженной умственной работой, причем думал всю жизнь о "самом главном" (ведь все-таки с самым главным у него, хотя и непонятным для нас образом, должна была связываться и литературная политика, и даже политика вообще). Таких людей мало. Его вечная напряженная умственная работа чувствовалась каждым и придавала редкий духовный аристократизм его облику. С сильными и слабыми своими сторонами, со своими большими заслугами и ошибками, Мережковский принадлежит истории русской земли.
Дмитрий Сергеевич Мережковский. Родился 2 августа 1866, Санкт-Петербург - умер 9 декабря 1941, Париж. Русский писатель, поэт, литературный критик, переводчик, историк, религиозный философ, общественный деятель.
Дмитрий Сергеевич Мережковский родился в дворянской семье нетитулованного рода Мережковских.
Отец, Сергей Иванович Мережковский (1823-1908), служил у оренбургского губернатора Талызина, потом у обер-гофмаршала графа Шувалова, наконец, на момент рождения сына, - в Дворцовой конторе при Александре II в должности столоначальника с чином действительного статского советника, вышел в отставку в 1881 году в чине тайного советника.
Мать писателя - Варвара Васильевна Мережковская, урождённая Чеснокова, дочь управляющего канцелярией петербургского обер-полицмейстера (известно, что в числе её предков были князья Курбские).
Прадед, Фёдор Мережки служил войсковым старшиной в Глухове. Дед, Иван Фёдорович, в последних годах XVIII века, в царствование императора Павла I, приехал в Петербург и в качестве дворянина поступил младшим чином в Измайловский полк. Из Петербурга Иван Фёдорович был переведен в Москву и принимал участие в войне 1812 года.
В семье Мережковских было шестеро сыновей и три дочери. Дмитрий, младший из сыновей, поддерживал тесные отношения лишь с Константином, впоследствии известным биологом.
Обстановка в доме Мережковских была простая, стол «не изобиловал», в доме царил режим бережливости: отец таким образом заранее отучал детей от распространённых пороков - мотовства и стремления к роскоши. Уезжая в служебные поездки, родители оставляли детей на попечении старой немки-экономки Амалии Христьяновны и старой няни, которая рассказывала русские сказки и жития святых: впоследствии высказывались предположения, что именно она была причиной экзальтированной религиозности, в раннем детстве проявившейся в характере будущего писателя.
Чувство семьи у Д. С. Мережковского было связано лишь с матерью, оказавшей заметное влияние на его духовное становление. В остальном он с детства сроднился «с чувством одиночества, которое находило сокровенную отраду в поэзии уединения среди болотистых рощ и прудов наводнённого тенями прошлого елагинского парка».
В 1876 году Д. С. Мережковский начал обучение в Третьей классической гимназии Петербурга.
Мережковский-старший, интересовавшийся религией и литературой, первым оценил поэтические упражнения сына.
В 1880 году отец, воспользовавшись знакомством с графиней С. А. Толстой, вдовой поэта А. К. Толстого, привёл сына к в дом на Кузнечном переулке. Юный Мережковский (как сам вспоминал позже в «Автобиографической заметке») читал, «краснея, бледнея и заикаясь», Достоевский слушал «с нетерпеливою досадою» и затем произнёс: «Слабо... слабо... никуда не годится... чтобы хорошо писать, страдать надо, страдать».
В 1880 году в журнале «Живописное обозрение» под редакцией А. К. Шеллера-Михайлова состоялся литературный дебют Мережковского: здесь были опубликованы стихотворения «Тучка» (№ 40) и «Осенняя мелодия» (№ 42). Год спустя стихотворение «Нарцисс» вошло в благотворительный литературный сборник в пользу неимущих студентов под названием «Отклик», вышедший под редакцией П. Ф. Якубовича (Мельшина).
Осенью 1882 года Мережковский побывал на первых выступлениях С. Я. Надсона, тогда - юнкера Павловского военного училища, и под впечатлением от услышанного, написал ему письмо. Так произошло знакомство двух начинающих поэтов, переросшее в крепкую дружбу, скрепленную глубокими, почти родственными чувствами. Обоих, как отмечали позже исследователи, связывала некая личная тайна, имевшая отношение к страху перед страданиями и смертью, стремлению к «обретению действенной веры, способной этот страх преодолеть».
Две смерти - Надсона в 1887 году, и матери два года спустя - явились сильнейшим ударом для Мережковского: он потерял двух самых для себя близких людей.
В 1883 году два стихотворения Мережковского появились в журнале «Отечественные записки» (№ 1): именно они считаются его дебютом в «большой литературе». Одно из первых стихотворений Мережковского «Сакья-Муни» вошло во многие тогдашние сборники чтецов-декламаторов и принесло автору немалую популярность.
В 1888 году Д. С. Мережковский, защитив весной дипломное сочинение о Монтене, окончил университет и решил посвятить себя исключительно литературному труду.
В 1896 году тридцатилетний Мережковский уже фигурировал в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона как «известный поэт». Впоследствии многие его стихотворения были положены на музыку А. Т. Гречаниновым, С. В. Рахманиновым, А. Г. Рубинштейном, П. И. Чайковским и другими композиторами.
Большое влияние на Мережковского оказал Г. И. Успенский: молодой поэт ездил к нему в Чудово, где ночами напролёт вёл беседы о «религиозном смысле жизни», о том как важно «обращаться к народному миросозерцанию, к власти земли». Под влиянием Успенского Мережковский ещё летом 1883 года во время студенческих каникул совершил путешествие по Волге, где познакомился с народным проповедником, близким к «толстовству», Василием Сютаевым, основателем религиозного учения «непротивленчества и нравственного самоусовершенствования». Позже с теми же целями он побывал в Оренбуржье, Уфе, Тверской губернии, некоторое время всерьёз рассматривая возможность «осесть в глубинке» в качестве сельского учителя.
Идеи народничества впоследствии сблизили Мережковского с сектантством. В июне 1902 года он с женой посетил берега озера Светлояр в Нижегородской губернии (берега которого, по преданию, скрывают град Китеж), где близко общался со староверами. «Мережковский наш, он с нами притчами говорил», - делились впечатлениями о своём необычном госте сектанты из глухой костромской деревушки с М. Пришвиным, через несколько лет проехавшим тем же маршрутом.
В 1886 году Мережковский перенёс тяжелую болезнь (о подробностях которой ничего не известно) - это произвело на него сильное впечатление и послужило одной из главных причин «поворота к вере».
В начале мая 1888 года, по окончании университета, Мережковский предпринял путешествие по югу России: сначала в Одессу, оттуда морем - в Сухум, потом по Военно-Грузинской дороге в Боржом, куда прибыл в последних числах месяца. Впоследствии отмечалось, что оно словно бы повторяло паломничество Вл. Соловьёва к пирамидам и воспринималось молодым автором как «духовное странничество, предпринимаемое неофитом для откровения Истины».
В Боржоме Мережковский познакомился с девятнадцатилетней Зинаидой Гиппиус. Оба испытали ощущение полного духовного и интеллектуального единения, уже 8 января 1889 года, в Тифлисе обвенчались, а вскоре переехали в Петербург.
В 1888 Мережковский написал первую поэму «Протопоп Аввакум» . Весной этого года вышла его первая книга «Стихотворения» (1883-1887), принесшая ему первую известность. Между тем, семейные расходы превышали непостоянный литературный заработок начинающего писателя. Роль «главы семьи» в этот момент взяла на себя Гиппиус (открывшая настоящий цех по производству беллетристики для популярных журналов). Кроме того, Мережковский-старший, появляясь в Петербурге наездами, время от времени «подпитывал» скудный бюджет литературной четы.
Постепенно начинающий писатель утратил интерес к поэзии, увлёкшись древнегреческой драматургией. В «Вестнике Европы» вышли его переводы трагедий Эсхила, Софокла и Еврипида. Отдельной книгой был издан прозаический перевод «Дафниса и Хлои» (1896).
В «Северном вестнике» состоялся дебют и Мережковского-критика: статья о начинающем А. П. Чехове - «Старый вопрос по поводу нового таланта».
В начале 1889 года Мережковские уехали из Петербурга и поселились в Крыму, где общались, в частности, с Н. М. Минским. По возвращении в столицу они поселились в новой квартире в доме Мурузи на углу Литейного проспекта и Пантелеймоновской улицы (Литейный, 24).
После того, как в мае 1890 года сменилось руководство «Северным вестником», Мережковский получил приглашение сотрудничать с обновлённым журналом. Почти сразу же здесь была напечатана драма «Сильвио», осенью - перевод Мережковского «Во́рона» Эдгара По.
Весной 1891 года, супруги предприняли свою первую совместную поездку в Европу: через Варшаву и Вену они прибыли в Венецию, где встретили путешествовавших по Италии А. П. Чехова и А. С. Суворина, которые на некоторое время стали их спутниками. Из Венеции все вчетвером направились в Флоренцию и Рим. Там Мережковские получили приглашение А. Н. Плещеева посетить его в Париже, где пробыли весь май. Под впечатлением от этих дней Мережковский написал поэму «Конец века. Очерки современного Парижа», которая была опубликована два года спустя (сборник «Помощь голодающим». Москва, 1892).
По возвращении через Швейцарию в Россию, супруги вернулись на дачу Гиппиус в имении «Глубокое» под Вышним Волочком: здесь писатель вплотную приступил к работе над своим первым романом.
Осенью 1891 года Мережковский перевёл Гёте («Пролог на небе» из «Фауста») для «Русского обозрения» и «Антигону» Софокла для «Вестника Европы» (обе публикации состоялись в следующем году). К весне 1892 года «Юлиан Отступник» был закончен, но из-за неурядиц в редакции «Северного вестника» оказалось, что публиковать этот «модернистский роман» негде. Некоторое время оставалась надежда на то, что А. Волынский всё же напечатает роман, но его грубые редакторские правки привели к разрыву, после чего «Северный вестник» для Мережковского оказался закрыт.
В 1892 году Мережковский читал главы романа на встречах у А. Н. Майкова. В те же дни несколько стихотворений и переводов поэта были опубликованы в «Русском обозрении», «Вестнике Европы», сборниках «Нивы» и «Труде».
В марте 1892 года, в основном на средства, выделенные ему отцом, Мережковский повёз жену на лечение в Ниццу, где в это время жила семья А. Н. Плещеева. Из Швейцарии Мережковские отправились через Италию в Грецию, а затем в Турцию. Из Турции супруги вернулись в Одессу и лето вновь провели в имении «Глубокое». Здесь Мережковский перевёл «Ипполита» Еврипида.
В 1892 году в издательстве А. С. Суворина вышел второй поэтический сборник Д. С. Мережковского с программным для зарождавшегося модернизма названием «Символы. Песни и поэмы». Именно здесь, как отмечалось, был запечатлён перелом в развитии его мировоззрения, обозначился поворот к религиозному миросозерцанию и ощущению «мистической тайны бытия».
В конце октября того же года Мережковский прочёл нашумевшую лекцию «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» , которая была повторена им дважды в декабре, а год спустя вышла отдельным изданием.
Лекция, наряду со сборником «Символы», считается манифестом символизма и модернистского обновления искусства. Мережковский обозначил здесь три линии нового искусства, утверждая, что только «мистическое содержание», «язык символа» и импрессионизм способны расширить «художественную впечатлительность» современной русской словесности.
Лекция Мережковского произвела фурор, причём либерально-демократический лагерь отнёсся к его теориям как к проявлению «мракобесия», а в петербургских литературных салонах они были встречены презрительно-насмешливо.
Зимой 1893 года Мережковские переехали в Петербург, где стали завсегдатаями Шекспировского кружка (общаясь с С. Андреевским, В. Спасовичем, А. Урусовым, П. Боборыкиным), неоднократно бывали на «пятницах» Я. Полонского и собраниях «Литературного фонда», устраивали вечера и у себя в доме Мурузи.
«Юлиан Отступник» стал первым в трилогии «Христос и Антихрист» и вошёл в историю как первый русский символистский исторический роман. После публикации статус писателя изменился: критики, ругая «ницшеанца Мережковского» (это словосочетание некоторое время оставалось неразрывным), вынуждены были констатировать несомненную значительность этого дебюта.
В апреле 1896 года Мережковские и Волынский совершили давно задуманное совместное путешествие по Италии и Франции по местам Леонардо да Винчи (Флоренция, Форли, Римини и далее - в Амбуаз), чтобы собрать материал для второго романа трилогии. Главным событием 1897 года стало для Мережковского выход книги его статей о литературе и культуре «Вечные спутники».
Наконец, в 1897 году Гиппиус после нескольких ссор с Волынским во время совместного путешествия всех троих по местам Леонардо, порвала с ним отношения. Волынский тут же исключил Мережковского из числа сотрудников «Северного вестника». К концу века Мережковский сблизился с окружением С. П. Дягилева, куда входили художники В. А. Серов, А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, поэт Н. М. Минский, а также издаваемым ими журналом «Мир искусства».
Весной 1899 года Мережковский с женой уехал на курорт Бад-Гомбург неподалеку от Франкфурта. Осень и большую часть следующего года супруги провели в Вене и Риме. К этому времени Мережковского окончательно захватили вопросы религии. Этот радикальный поворот в развитии его мировоззрения в полной мере отразился в новой работе. «Л. Толстой и Достоевский».
Трактат, во многом посвящённый анализу путей становления русской литературы, иллюстрировал и ход эволюции мировоззрения самого Мережковского.
Работа Мережковского появилась в момент обострения конфликта Толстого с русской православной церковью. Мережковский (оговариваясь: «Мое отношение к Толстому, хотя и совершенно цензурное, но не враждебное, а скорее сочувственное»), считал отлучение его от церкви знаком того, что Русская православная церковь «оправляется от паралича» и начинает вновь сознавать себя «мистическим организмом, не терпящим компромиссов догматического характера».

После создания журнала «Новый путь» Мережковские предприняли попытку примирения с и, возможно, рассчитывали на сотрудничество с ним.
В 1904 году Толстой пригласил супругов на встречу в Ясную Поляну. Встреча прошла почти в дружеской атмосфере.
Поздней осенью 1900 года на квартире у Мережковских прошли первые «мистические собрания», целью которых являлось создание «новой церкви», идею которой первой сформулировала Гиппиус.
К своему «религиозному братству» Мережковские пытались привлечь всех «мирискусников», однако всерьёз к этой затее отнёсся только Д. В. Философов: так кружок сократился до треугольника. Постепенно в результате сложных перипетий в личных взаимоотношениях и мировоззренческих коллизиях сложился «тройственный союз» Д. Мережковского, З. Гиппиус и Д. Философова, имевший для его участников символический смысл, связанный с идеями «Третьего Завета» («царства Духа»), которые в те годы разрабатывал Мережковский.
Видел в союзе Мережковский-Гиппиус-Философов отражение их религиозной веры в «тайну трёх», через которую должна была «сложиться новая Святая Троица, новая церковь Святого Духа, в которой раскроется тайна бытия».
«Троебратство» (как называли организацию её участники) стали совершать дома подобие «малого богослужения» - с вином, цветами, виноградом, импровизированными молитвами. Считалось, что родилась «новая церковь» 29 марта 1901 года: именно тогда, в Великий Четверг, чета Мережковских и Философов провели совместную молитву по специальному ритуалу.
Новость о «доморощенной церкви» многих ввергла в недоумение, в частности, «взбесила Бердяева, и он окончательно вошёл в православие».
Откликаясь на знаменательную дату - 50 лет со дня смерти Н. В. Гоголя, - Мережковский написал исследование «Судьба Гоголя» и выступил с «гоголевскими» лекциями в Москве и Петербурге. Один из докладов, «Гоголь и о. Матвей», вызвал широкое обсуждение, в частности, в резиденции петербургского митрополита Антония в Александро-Невской лавре, который с одобрением отозвался о «просветительской» миссии Мережковского среди отечественной интеллигенции.
Проблемы, связанные с поисками возможностей публикаций новых работ заставили автора задуматься о создании собственного периодического издания. В марте-апреле 1902 года Мережковские и П. П. Перцов выступили с инициативой создания журнала для объединения «религиозной общественности». С помощью поэта К. К. Случевского и журналиста И. И. Колышко они провели переговоры с министром внутренних дел Д. С. Сипягиным, затем со сменившим его В. К. фон Плеве и с начальником Главного управления по делам печати Н. В. Шаховским.
3 июля 1902 года согласие властей на издание журнала «Новый путь» было получено. Лето Мережковские провели в имении Заклинье, работая над проектом будущего издания, а 14 июля к ним присоединился книгоиздатель М. В. Пирожков, взявший на себя заботы по организации редакции журнала и снявший помещение в доме на Невском проспекте, 88, где находились его издательство и книжная лавка. Этому успеху способствовал и тот факт, что первую половину года 1902 года уже с успехом проходили заседания Религиозно-философских собраний.
Вместе с Философовым, В. В. Розановым, Миролюбовым и В. А. Тернавцевым супруги Мережковские организовали в 1901 году «Религиозно-философские собрания» , целью которых было - создать своего рода трибуну для «свободного обсуждения вопросов церкви и культуры... неохристианства, общественного устройства и совершенствования человеческой природы».
Организаторы Собраний трактовали противопоставление духа и плоти так: «Дух - Церковь, плоть - общество; дух - культура, плоть - народ; дух - религия, плоть - земная жизнь».
Протоколы «Собраний» (наряду с произведениями на религиозные темы) печатались в журнале «Новый путь».
После 22-го заседания Общества, 5 апреля 1903 года специальным распоряжением оно было закрыто. Предполагалось, что одной из причин тому было недовольство церковных кругов поездками Мережковского в места поселения сектантов и староверов и большой популярностью писателя в этой среде.
«Секция» Мережковских продолжала функционировать как своего рода «домашняя церковь», где разрабатывались концепции практического строительства «церкви Святого Духа».
В 1907 году Религиозно-философские собрания были возрождены как Религиозно-философское общество, просуществовавшее до 1916 года. Мережковский, открывший его первое заседание, продолжил развивать здесь идеи, связанные с концепцией «царства Духа», но (в основном усилиями З. Гиппиус и Д. Философова) Общество, как отмечали многие, вскоре превратилось в литературно-публицистический кружок.
Трилогия «Христос и Антихрист» , в которой писатель выразил свою философию истории и свой взгляд на будущее человечества, была начата им в 1890-е годы.
Первый её роман, «Смерть богов. Юлиан Отступник», история жизни римского императора IV века Юлиана, впоследствии назывался критиками в числе сильнейших произведений Д. С. Мережковского.
За ним последовал роман «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» (1901). Критики отметили с одной стороны - историческую достоверность деталей, с другой - тенденциозность.
В 1902 году «Юлиан Отступник» и «Леонардо да Винчи» были изданы отдельными книгами в издательстве М. В. Пирожкова - как первые две части трилогии. Одновременно в Париже роман «Леонардо да Винчи» вышел на французском языке в переводе С. М. Пермского. Вышли отдельными книгами и все переводы греческих трагедий Мережковского и сборник новелл «Любовь сильнее смерти».
В начале 1904 года «Новый путь» (№ 1-5 и № 9-12) начал печатать третий роман трилогии, «Антихрист. Пётр и Алексей» (1904-1905), написанный уже после закрытия Собраний, - богословский и философский роман о Петре I, которого автор «рисует воплощенным антихристом», как отмечалось, во многом - под влиянием соответствующего представления, бытовавшего в раскольнической среде.
К началу 1904 года многочисленные стрессы негативно сказались на состоянии нервной системы Мережковского. По совету врача-психиатра И. П. Мержеевского он в составе «троебратства» отправился на Иматру. Именно в ходе этой поездки Мережковские по пути в Австрию заехали на два дня в Ясную Поляну, к осени они сблизились с Блоком и - последний стал регулярно останавливаться у Мережковских в Петербурге. В январе 1905 года окончательно переехал в дом Мурузи к супругам и Д. Философов.
Отношение писателя к Первой русской революции было во многом предопределено событиями 9 января - после расстрела шествия рабочих Мережковские, Философов и гостивший у них Андрей Белый организовали студенческий «протест» в Александринском театре, после чего пришли на выступление Г. А. Гапона в Вольно-экономическом обществе.
Ареста, которого Мережковский ожидал несколько дней, не последовало.
Ещё более «полевели» его взгляды после поражения России в войне с Японией: в беседе с Гиппиус он заявил, что окончательно уверился в «антихристианской» сущности русского самодержавия.
Свою позицию Мережковский подробно изложил в работе «Грядущий хам», которая в течение 1905 года печаталась в журналах «Полярная звезда» и «Вопросы жизни». Предостерегая общество от «недооценки мощных сил, препятствующих религиозному и социальному освобождению», писатель считал, что интеллигенции, воплощающей «живой дух России», противостоят силы «духовного рабства и хамства, питаемые стихией мещанства, безличности, серединности и пошлости». При этом «хамство» в его терминологии было не социальной характеристикой, но синонимом бездуховности (материализма, позитивизма, мещанства, атеизма и т. д.).
Если религиозного обновления не произойдет, весь мир, и Россию в том числе, ждет «Грядущий хам», - утверждал писатель.
Весной 1906 года Мережковские вместе с Философовым отправились в первую парижскую эмиграцию - «добровольное изгнанье», призванное послужить «переоценке ценностей». Обустроившись в Париже, все трое приступили к осуществлению своей «миссии в Европе», основная цель которой состояла в утверждении «нового религиозного сознания».
В процессе организации журнала «Анархия и Теократия» участники «троебратства» издали коллективный сборник «Le Tsar et la Revolution» («Царь и революция»; он вышел в Париже в 1907 году), в котором Мережковскому принадлежал очерк «Революция и религия».
Рассматривая русскую монархию и церковь на широком историческом фоне, автор приходил здесь к выводу, впоследствии оказавшемуся пророческим: «В настоящее время едва ли возможно представить себе, какую всесокрушающую силу приобретет в глубинах народной стихии революционный смерч. В последнем крушении русской церкви с русским царством не ждет ли гибель Россию, если не вечную душу народа, то смертное тело его - государство» .
Ссылаясь на тесные отношения с Савинковым, Карташевым и особенно (впоследствии) с Керенским, равно как и многими другими представителями русского «политического масонства», некоторые источники утверждают, что Мережковские сами состояли в масонской ложе . Более того, если верить А. Я. Гальперину (входившему в аппарат Временного правительства), Мережковские были даже приняты в «специально созданную для них ложу».
В Париже Мережковские установили связи с журналом «Mercure de France», общались с А. Франсом и Р. Штайнером, лидером французских социалистов (это знакомство устроил прибывший к тому времени в Париж А. Белый), философом Бергсоном, но остались крайне неудовлетворенными вежливой, но безразличной реакцией европейцев на их идеи.
Супруги познакомились с П. А. Кропоткиным и Г. В. Плехановым, продолжая тесно общаться с представителями эсеровского террористического подполья, прежде всего, И. Фондаминским и Б. Савинковым, который искал у Мережковских «религиозного оправдания» политическому террору и получил «интенсивные литературные консультации» в работе над романом «Конь Бледный».
В эти дни сам Мережковский начал вплотную работать над пьесой «Павел I» - первой частью новой трилогии «Царство Зверя» .
К началу следующего 1908 года, несмотря на успех ещё одной своей публичной лекции, «О самодержавии», Мережковский пришёл к выводу о том, что его «европейская миссия» исчерпана.
11 июня 1908 года, поддавшись уговорам прибывшего в Париж Н. Бердяева, который рассказал им о новой ситуации, складывающейся в стране, Мережковские приняли решение вернуться в Россию.
В 1908 году Д. С. Мережковский опубликовал завершённую ещё в Париже драму «Павел I», ставшую первой частью трилогии «Царство Зверя» (первоначально названной «Зверь из Бездны»). Произведение, по мнению цензоров, «оскорблявшее самодержавие», было немедленно конфисковано, его публикация повлекла за собой продолжительное судебное преследование (лишь 18 сентября 1912 года суд оправдал автора и издателя «за отсутствием состава преступления»).
Роман (второй в трилогии) «Александр I» печатался в «Русской мысли» в 1911-1912 годах, отдельным изданием вышел в 1913 году (и был переиздан в Берлине в 1925 году). Заключительная часть трилогии, роман «14 декабря», вышел в 1918 году.
Все три книги были свободны от метафизической догматики, красочной эротики и «смакования жестокостей», в чём некоторые критики упрекали автора за романы первой трилогии. Романы серии «Царство зверя», исследующие природу и суть русской монархии на широком историческом фоне, демонстрировали прочную связь «с гуманистической традицией русской литературы XIX века», которая, как считали многие критики, оказалась в других произведения Мережковского утраченной.
В начале 1909 года у Мережковского возникли проблемы со здоровьем: по совету врачей супруги направились лечиться в Европу. Первоначальный диагноз - органические изменения в сердце - не подтвердился: в Париже (куда супруги прибыли по приглашению Савинкова) кардиолог Вогез не нашёл патологий в сердечной деятельности и рекомендовал писателю лечиться от нервного истощения. Зимой того же года, почувствовав ухудшение состояния, Мережковский направился на юг Франции, где продолжил работу над «Александром I» и сбор материалов для следующего романа «14 декабря».
13 января 1910 года вышла книга Д. С. Мережковского «Больная Россия» , в которую были включены статьи, опубликованные в газете «Речь» в 1908-1909 годах и затрагивавшие важные вопросы, касавшиеся церковной жизни.
В 1910 году саратовский епископ Гермоген (Долганов) выступил с требованием отлучить Д. Мережковского от Русской православной церкви.
1913 год оказался для Мережковского омрачённым конфликтом с недавним другом В. Розановым, который - по поводу «дела Бейлиса» - в газете «Земщина» выступил со статьями о ритуальных жертвоприношениях у евреев. После того, как Розанов публично обвинил Мережковского в попытке «продать родину жидам» и в связях с террористическим подпольем, последний вынес вопрос о его поведении на рассмотрение Религиозно-философского общества.
26 января в Обществе состоялся «Суд над Розановым», большинство участников не поддержало требований Мережковского и Философова об исключении Розанова. Последний вышел из Общества добровольно, но при этом опубликовал в «Новом времени» (25 января) выдержки из писем Мережковского А. С. Суворину, которые доказывали, по его мнению, «двуличие» писателя.
В том же году в издательстве М. О. Вольфа вышло первое (17-томное) собрание сочинений Мережковского. Второе было составлено и выпущено Д. И. Сытиным в 1914 году в 24 томах.
К участию России в войне Мережковский отнёсся крайне отрицательно. Супруги демонстративно отказались участвовать в каких бы то ни было верноподданнических манифестациях и выразили, кроме того, неодобрение в связи с переименованием столицы из Петербурга в Петроград.
В 1916 году состоялись премьеры двух его пьес: «Будет радость» (МХТ) и «Романтики».
Зиму 1917-го супруги провели в Кисловодске, а в конце января 1917 года вернулись в Петроград. В феврале их квартира на Сергиевской стала почти «филиалом» Государственной думы: в период крушения монархии к ним, в перерывах между заседаниями, заходили знакомые «думцы» и они, как вспоминала Гиппиус, весь 1917 год «следили за событиями по минутам».
Мережковские приветствовали Февральскую революцию 1917 года: они полагали, что только «честная революция» может покончить с войной, а «установление демократии даст возможность расцвета идей свободы (в том числе и религиозной) перед лицом закона».
Не входя ни в одну из политических партий, Мережковский имел контакты со всеми, за исключением социал-демократической. Временное правительство он воспринимал как «вполне близкое». 14 марта к супругам на квартиру пришёл А. Ф. Керенский - уже глава Временного правительства - с тем, чтобы попросить Мережковского написать популярную брошюру о декабристах для распространения в войсках. Однако вторая аудиенция у Керенского, также в марте, произвела на писателя удручающее впечатление: в те дни он, погрузившись в депрессию, предсказал и скорое падение Временного правительства и диктатуру В. И. Ленина.
Октябрьские события вызвали яростный протест Мережковского. Он истолковал происшедшее как разгул «хамства», воцарение «народа-Зверя», смертельно опасного для всей мировой цивилизации, торжество «надмирного зла». Мережковский и Гиппиус первым делом занялись хлопотами по освобождению министров, заключённых в Петропавловскую крепость. В конце этого года писатель выступал с антибольшевистскими лекциями и статьями, одна из них, «1825-1917» (14 декабря, газета «Вечерний звон») анализировала ведущую роль интеллигенции в русском революционном движении. Между тем, «Павел I» сразу же после революции был реабилитирован, пьеса прошла во многих театрах страны.
В январе 1918 года квартира Мережковских на Сергиевской стала местом конспиративных заседаний эсеровской фракции.
В 1919 году Мережковский вынужден был начать сотрудничество с горьковским издательством «Всемирная литература», где стал получать паёк и заработок. Для «Секции исторических картин» он переделал романы «Юлиан Отступник» и «Пётр и Алексей» в пьесы.
Спасаясь от голода, супруги распродавали всё, что могли, включая одежду и посуду. Описывая расстрелы «интеллигенции, дворянства и духовенства», Мережковский замечал в «Записной книжке»: «А в Европе гадают, возможна или невозможна постепенная эволюция от человеческой мясорубки к свободе, равенству и братству». Характеризуя вождей революции, Мережковский писал: «Среди русских коммунистов - не только злодеи, но и добрые, честные, чистые люди, почти "святые". Они-то-самые страшные. Больше, чем от злодеев, пахнет от них китайским мясом» .
Когда Юденич подходил к Петрограду, Мережковские ещё надеялись на свержение власти большевиков, но узнав о поражении Колчака и Деникина, решили бежать из России.
В декабре 1919 года, комментируя предложение произнести речь в день годовщины восстания декабристов на торжественном празднике, устроенном в Белом зале Зимнего дворца, Мережковский писал в дневнике: «Я должен был прославлять мучеников русской свободы пред лицом свободоубийц. Если бы те пять повешенных воскресли, их повесили бы снова при Ленине, так же, как при Николае Первом». Он покинул Петроград как раз в день этого ожидавшегося от него выступления.
Сначала писатель подал заявление в Петроградский совет с просьбой разрешить «по болезни» выехать за границу, на что получил категорический отказ. Наконец, получив мандат на чтение лекций красноармейцам по истории и мифологии древнего Египта, в ночь 24 декабря 1919 года чета Мережковских, Д. В. Философов и секретарь Гиппиус, студент филологического факультета Петербургского университета В. А. Злобин, тайком покинули Петроград.
Через Бобруйск все четверо выехали в Минск, где своим появлением привлекли внимание польской шляхты и русских эмигрантов. Мережковские прочли несколько лекций и опубликовали антибольшевистские статьи в газете «Минский курьер». В начале февраля 1920 года они выехали в Вильно, где провели в Городском зале две лекции.
Из Вильно Мережковские выехали в Варшаву. Здесь, получив от издателя Бонье крупный аванс, писатель приступил к работе над книгой о России и большевиках, погрузившись одновременно в антикоммунистическую деятельность Русского комитета в Польше, стране, как он полагал, «потенциальной всеобщности». В июле он приступил к редактированию газеты «Свобода», в которой активное участие приняла и З. Н. Гиппиус, ставшая редактором литературного отдела. Одну из статей здесь под названием «Смысл войны» Мережковский подписал псевдонимом «Юлиан Отступник».
Летом Б. Савинков, прибывший в Польшу для переговоров с Ю. Пилсудским, привлёк Мережковских и Философова к работе в Русском эвакуационном комитете, который фактически являлся военно-мобилизационной структурой для формирования белогвардейских частей.
25 июня 1920 года Мережковский встретился в Бельведере с главой Польши Пилсудским. От имени Комитета он опубликовал «Воззвание к русской эмиграции и русским людям», в котором призвал не сражаться с воюющей польской армией, более того, присоединяться к ней.
Поняв, что их «миссия» (состоявшаяся прежде всего в попытке убедить польское правительство отказаться от перемирия с большевиками) провалилась, Мережковские и Злобин 20 октября 1920 года выехали из страны. В. Философов остался в Варшаве с Савинковым, возглавив отдел пропаганды в Русском политическом комитете в Польше.
После недолгой остановки в Висбадене, Мережковские прибыли в Париж, где расположились в долгие годы пустовавшей квартире. Здесь в конце 1920 года Мережковский создал антикоммунистический «Религиозный союз» (впоследствии - «Союз непримиримых»), а 16 декабря выступил в Зале научных обществ с лекцией «Большевизм, Европа и Россия», в которой разоблачил «тройную ложь» большевиков, говоря, что лозунги «мир, хлеб и свобода» на самом деле означают «война, голод и рабство». Согласно Мережковскому, в России «настало царство Антихриста», он «предпочел бы, чтобы Россия не существовала вовсе», если бы знал, что «Россия и свобода - несовместимы».
Мережковский считал, что русский народ - самый «последний, крайний, предельный и... по всей вероятности, объединяющий все остальные культуры, преимущественно синтетический народ», близкий к пределам всемирной истории. Запад виделся Мережковскому захлестнутым волной «удушающего мертвого позитивизма», Восток – воплощением позитивизма. Россия и русские люди «нового религиозного сознания» должны были, по его замыслу, стать искрой, которая вызовет взрыв, коренное изменение в мировой культуре и цивилизации.
При этом Мережковские были свободны от проповеди национального превосходства и изоляционизма. Они были убеждены, что «последний христианский идеал Богочеловечества достижим только через идеал всечеловечества, то есть идеал вселенского, все народы объединяющего просвещения, вселенской культуры».
В Париже Мережковские начали сотрудничать с журналом «Современные записки», газетами «Последние новости» (П. Н. Милюков) и «Возрождение» (П. Б. Струве), но взаимопонимания с этими редакциями у них не возникло. Мережковские не вошли ни в один эмигрантский кружок: их взгляды не находили отклика ни у правых, ни у левых.
Активно агитировавший за интервенцию в Россию Мережковский был представлен премьер-министру Э. Эррио, написал открытые письма Ф. Нансену и Г. Гауптману, а позже - папе Пию XI, выразив протест против общения представителей Ватикана с «гонителями христиан» (на что получил резкую отповедь от аббата Ш. Кене).
Практически единственным безоговорочным союзником Мережковского в эти годы был : по многим вопросам с ним они выступали единым фронтом, в частности, призывая ПЕН-клуб прекратить контакты с советскими писателями. Бунин и Мережковский провели переговоры с французскими политиками, лоббировавшими интересы эмиграции и добились выделения пособий русским писателям-эмигрантам.
В январе 1921 года в Париже прошло совещание членов Учредительного собрания в эмиграции, к «примирительным» заявлениям последнего Мережковский отнёсся враждебно. Лекции и статьи, опубликованные им в газете В. Л. Бурцева «Общее дело», вошли в коллективный сборник «Царство Антихриста» (Мюнхен, 1921), программное выступление четырёх авторов (Мережковский, Гиппиус, Философов, Злобин), полное впечатлений от жестокостей жизни в большевистском Петрограде.
В эти дни Мережковские близко сошлись с бывшим революционером-народником Н. В. Чайковским, в издательстве которого («Русская земля») был переиздан роман «14 декабря».
В 1921 году в Висбадене Мережковский вернулся к работе над материалами по Древнему миру, в частности, - книгой «Тайна Трёх. Египет и Вавилон». Эти были отмечены для него активным общением с приезжавшими сюда И. А. Буниным и В. Н. Муромцевой-Буниной, а также с И. В. Гессеном и бывшим министром А. В. Кривошеиным.
Писатель выступил в прессе против помощи голодающим в РСФСР (аргументируя свою позицию тем, что деньги до голодающего Поволжья не дойдут), полемизировал с газетой «Накануне» и А. Н. Толстым, ратовавшими за возвращение эмигрантов на родину и примирение их с большевиками.
В январе 1923 года (в качестве ответа на анкету швейцарского ежемесячника «La Revue de Geneve») Мережковский опубликовал в журнале статью «Будущее Европы», в которой предрёк континенту скорый переход к антропофагии.
В июле он отправил письмо секретарю ПЕН-клуба Нискотту с требованием прекратить контакты клуба с советскими писателями и Горьким.
Мережковский и Гиппиус стали инициаторами создания, а затем и активными участниками литературно-философского общества «Зелёная лампа» (1927-1939).
В сентябре 1928 года Мережковские приняли участие в Первом съезде русских писателей-эмигрантов, организованном в Белграде королём Югославии Александром I Карагеоргиевичем. Тогда же сербский монарх наградил писателя орденом Святого Саввы первой степени за заслуги перед культурой. Мережковский и Гиппиус выступили с публичными лекциями, организованными Югославской академией, после чего при Сербской академии наук стала издаваться «Русская библиотека», в которую вошли произведения Бунина, Мережковского, Гиппиус, Куприна, Ремизова, Шмелева, Бальмонта, Северянина.
В 1932 начались задержки с выплатами пособий русским писателям-эмигрантам от Чехии, Сербии и Франции. Материальное положение Мережковских ухудшилось («Мы обнищали до полной невозможности», - писала Гиппиус Амфитеатрову).
В мае 1932 года Мережковский с женой отправились во Флоренцию по приглашению общества «Alta Cultura» и клуба Леонардо да Винчи. Лекции писателя о великом художнике прошли с огромным успехом, высокие оценки они получили в прессе (La Nazione, 17 и 20 мая).
В эмиграции жанровые предпочтения Мережковского вновь радикальным образом изменились. Художественная литература из его творчества оказалась вытеснена произведениями в жанре религиозно-философского трактата и биографическими эссе («Наполеон», 1929; «Данте», 1939).
Среди религиозно-философских сочинений, написанных Мережковским в годы эмиграции, исследователи выделяют «Павел. Августин» (Берлин, 1936), «Св. Франциск Ассизский» (Берлин, 1938) и «Жанна д’Арк и Третье Царство Духа» (Берлин, 1938), вышедшие под общим заголовком «Лица святых от Иисуса к нам».
Посмертно на французском языке была издана трилогия Мережковского «Реформаторы», в которую вошли книги о Лютере, Кальвине и Паскале (1941-1942; русское издание - Нью-Йорк, 1991).
Перед самой смертью Мережковский завершил свою последнюю трилогию об «испанских тайнах»: «Испанские мистики. Св. Тереза Иисуса» («Возрождение», 1959. № 92 и 93), «Св. Иоанн Креста» («Новый журнал», 1961, № 64, 65 и 1962. № 69), «Маленькая Тереза» (отдельное издание в США, 1984).
В эмиграции Мережковский продолжал полагать, что «русский вопрос - это всемирный вопрос и спасение России от большевизма - основная задача и смысл западной цивилизации» .
Текст «радиообращения» Мережковского долгое время ассоциировался со статьей «Большевизм и человечество» , которая была опубликована в 1944 году в «Парижском вестнике», издававшемся оккупационным Управлением делами эмиграции в России.
Между тем, согласно Ю. В. Зобнину, убеждённому в том, что Мережковский никогда не произносил своей прогитлеровской речи, статья представляла собой изготовленную в пропагандистском ведомстве фашистской Италии компиляцию из фрагментов искаженного текста неопубликованного эссе Мережковского «Тайна русской революции» (о «Бесах» Ф. М. Достоевского), куда были добавлены инородные фрагменты.
В 1942 году, как утверждает автор версии, пропагандистское ведомство Муссолини, с тем, чтобы поднять боевой дух своих войск, направленных на Восточный фронт, изготовило пропагандистский текст, вырезав из работы Мережковского всё касавшееся романа Достоевского и добавив - «актуальные пассажи о священной миссии Германии». Под заголовком: «Большевики, Европа и Россия. - Большевизм и человечество» - этот текст увидел свет в 1942 году.
Фальшивка, по мнению Ю. Зобнина, так или иначе была озвучена по итальянскому радиовещанию, после чего в 1943 году итальянский перевод сфабрикованного текста попал в Париж уже в качестве «неизвестной статьи Мережковского». Текст заново перевели на русский язык и опубликовали, не зная, что запасной вариант эссе о романе Достоевского хранится у Л. М. Лифаря.
В июне 1936 года Мережковский получил стипендию от правительства Муссолини для работы над книгой о Данте, более того, итальянский диктатор нашёл время, чтобы несколько раз встретиться с писателем и поговорить с ним о политике, искусстве и литературе.
В ходе личных встреч с дуче Мережковский убеждал того в необходимости начать «священную войну» с Советской Россией. В одном из писем, адресованных Муссолини, Мережковский писал: «Лучшее из всех свидетельств о Данте, самое правдивое и самое живое - это Вы. Дабы понять Данте, надо им жить, но это возможно только с Вами, в Вас... Ваши души изначально и бесконечно родственны, они предназначены друг для друга самой вечностью. Муссолини в созерцании - это Данте. Данте в действии - это Муссолини».
В феврале 1937 года в «Иллюстрированной России» (№ 8) появилась статья Мережковского «Встречи с Муссолини» , именно она впоследствии цитировалась в качестве неопровержимого доказательства «коллаборационизма» Мережковского.
В мае 1937 года, завершив «Данте», Мережковский вернулся в Рим и, сняв виллу «Флора» неподалеку от летнего дворца Папы, встретился с итальянским министром иностранных дел Видау. Однако уже в октябре, вернувшись в Париж, он говорил о том, что разочарован Муссолини, называя его «политиком-материалистом» и «пошляком».
Некоторое время писатель безуспешно пытался связаться с Франко, диктатором Испании - страны, которая стала казаться ему возможным убежищем от «коммунистической экспансии» в Европу.
При этом Мережковский осознавал опасность фашизма. Ещё в 1930 году он писал в одной из своих книг о Европе: «В нижнем этаже - пороховой погреб фашизма; в верхнем - советская лаборатория взрывчатых веществ, а в среднем - Европа, в муках родов: мир хочет родить, а рождает войну».
Но возможная победа Гитлера в войне пугала Мережковского меньше, чем порабощение Европы большевиками. В отношении к фюреру впервые взгляды Гиппиус и Мережковского разошлись. Если для Гиппиус Гитлер всегда был «идиотом с мышь под носом» (об этом вспоминали Л. Энгельгардт и Н. Берберова), то Мережковский считал его удачным «орудием» в борьбе против «царства Антихриста», каковым считал большевизм.
Осенью 1938 года, когда гитлеровская Германия аннексировала Австрию и захватила Судеты, а потом и Чехословакию, Мережковский и Гиппиус выступили с категорическим осуждением «Мюнхенского сговора».
В июле 1939 года в гитлеровской Германии было запрещено издание «Жанны д’Арк». В Брюсселе, в издательстве «Петрополис», на русском языке вышел «Данте» - без посвящения и каких бы то ни было упоминаний Муссолини во вступительной статье. «Пакт о ненападении», заключённый 23 августа СССР и Германией, Мережковские сочли политическим абсурдом; Гиппиус назвала его «пожаром в сумасшедшем доме».
1 сентября 1939 года начало Второй мировой войны супруги встретили в Париже. Незадолго до этого Мережковский передал Л. М. Лифарю рукопись эссе «Тайна русской революции». Летом американская киностудия Paramount и французская Association des Auteurs de Films приняли к постановке сценарий Мережковского «Жизнь Данте», но из-за начала войны съемки не состоялись. 9 сентября, опасаясь бомбардировок, Мережковские, вместе с десятками тысяч парижан выехали из Парижа и поселились в Биаррице на юге Франции. Проведя здесь три месяца (в обществе Г. В. Иванова и И. В. Одоевцевой, французских и английских военных), они вернулись в столицу, где провели зиму и весну 1940 года.
В начале июня начались бомбардировки Парижа, супруги вновь «эвакуировались» в Биарриц, но 27 июня сюда вошли гитлеровцы, и осенью Мережковские вернулись в столицу, где некоторое время вынуждены были ночевать у знакомых и жить в приюте для беженцев.
14 августа 1940 года в Биаррице прошло чествование Мережковского по случаю его 75-летия под председательством Клода Фаррера, в комитет по организации которого входили П. Н. Милюков, И. А. Бунин, В. А. Маклаков и М. А. Алданов. Торжество принесло юбиляру и 7 тысяч франков: это позволило супругам снять виллу «El Recret». Здесь писатель успел завершить «Святого Иоанна Креста» и сразу же начал работать над «Святой Терезой Авильской» и «Маленькой Терезой».
Летом 1941 года, вскоре после нападения Германии на СССР, В. Злобин и его немецкая знакомая без ведома Гиппиус (предположительно, чтобы облегчить тяжелое материальное положение супругов) привели писателя на немецкое радио. Мережковский перед микрофоном произнес речь «Большевизм и человечество», в которой говорил о «подвиге, взятом на себя Германией в Святом Крестовом походе против большевизма» . Писатель сравнил фюрера с Жанной д’Арк, призванной спасти мир от власти дьявола.
З. Гиппиус, «узнав об этом радиовыступлении, была не только расстроена, но даже напугана», - первой её реакцией стали слова: «Это конец». Она не ошиблась. Их подвергли остракизму, «сотрудничества» с Гитлером (заключавшегося лишь в одной этой радиоречи) Мережковскому не простили.
Заклейменный русской эмиграцией за германофильство, писатель оказался в общественной изоляции. Вести о зверствах гитлеровских войск в России заставили Мережковского усомниться в своем выборе; незадолго до смерти он, по свидетельству близкого к кругу З. Гиппиус поэта В. А. Мамченко, осуждал Гитлера.
Последние месяцы жизни Мережковский непрерывно работал: прочёл публичные лекции о Леонардо да Винчи и Паскале, пытался прочесть доклад о Наполеоне, но он был запрещён оккупационными властями. К июню 1941 года у Мережковских кончились деньги: выселенные из виллы за неуплату, они сняли на лето меблированные комнаты. В сентябре, одолжив деньги у знакомых, супруги вернулись в парижскую квартиру. Истощённый физически и морально, Мережковский до последних дней пытался работать над «Маленькой Терезой», но она так и осталась неоконченной.
Мережковский скоропостижно скончался 7 декабря 1941 года от кровоизлияния в мозг. 10 декабря состоялись отпевание в православном храме Святого Александра Невского на улице Дарю и похороны на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Присутствовало всего лишь несколько человек, а могильный памятник был поставлен на подаяние французских издателей.
Надгробие - белый обелиск, повторяющий контуры византийского православного храма, увенчанный маковкой с «восьмиконечным» православным крестом, - в нише своей имело изображение Пресвятой Троицы в обрамлении слов из прошения молитвы Господней: «Да приидет Царствие Твое».
Личная жизнь Дмитрия Мережковского:
Первым серьёзным романтическим увлечением Мережковского была Л. К. Давыдова, дочь издательницы «Северного Вестника» Л. К. Давыдовой. Летом 1885 года он совершил путешествие с семьей А. А. Давыдовой по Франции и Швейцарии, но этот любовный роман оказался неудачным.
В январе 1889 года Мережковский вступил в брак с З. Н. Гиппиус, будущей поэтессой и писательницей, которая стала на всю жизнь его ближайшим другом, идейным спутником и «соучастницей духовных и творческих исканий». Союз Мережковского и Гиппиус - самый известный творческий тандем в истории русской культуры «серебряного века».

Современники отмечали, что Мережковский и Гиппиус составляли единое целое, были неотделимы друг от друга. Сами супруги признавались, что часто не улавливали, кому именно из них принадлежит начало той или иной идеи.
Необычным было уже начало этого союза. Едва только познакомившись, они стали встречаться ежедневно, в парке, причём втайне от окружающих. Каждый их разговор выливался в спор, но при этом стремительно способствовал осознанию полного единения.
Гиппиус так описывала их встречу 11 июля в Боржоме: "Мне уже не раз делали, как говорится, «предложение»; еще того чаще слышала я «объяснение в любви». Но тут не было ни «предложения», ни «объяснения»: мы, и главное, оба - вдруг стали разговаривать так, как будто это давно было решено, что мы женимся и что это будет хорошо. Начал, дал тон этот, очень простой, он, конечно, а я так для себя незаметно и естественно в этот тон вошла, как будто ничего неожиданного и не случилось".
Венчание состоялось 8 января 1889 года практически без гостей. День свадьбы молодожены провели за чтением. На утро Гиппиус, по собственному признанию, «забыла, что накануне вышла замуж».
Гораздо больше поводов для ревности давала Гиппиус, именно её реакция на увлечения мужа вызывала ссоры, которыми омрачался союз. Самый большой скандал в семье вызвали отношения Мережковского с Е. И. Образцовой, его многолетней поклонницей. В начале апреля 1901 года она приехала в Петербург, и он неожиданно завязал с ней любовный роман, оправдывая своё «падение» теорией о «святости плоти».
В конце июля 1902 года Образцова прибыла к супругам вновь: формально - чтобы стать пайщицей «Нового пути», в действительности - по причинам опять-таки романтическим. В конечном итоге Гиппиус со скандалом выставила её из дома. Вспыхнувший осенью 1905 года внезапный роман Мережковского с поэтессой-«оргиасткой» Л. Н. Вилькиной, из-за которого в очередной раз чуть не рухнуло «троебратство», оказался его последним серьёзным увлечением «на стороне».
Заранее предоставив друг другу полную романтическую свободу, супруги в какой-то мере принесли ей в жертву чувственную сторону союза: до самого конца совместного жизненного пути, ощущая полное духовное и интеллектуальное единение, они уже не испытывали друг к другу сильных чувств.
Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус
Секретарь Гиппиус вспоминал: «Она очень женственна, он - мужественен, но в плане творческом, метафизическом роли перевёрнуты. Оплодотворяет она, вынашивает, рожает он. Она - семя, он - почва». О том же писала И. В. Одоевцева: «В их союзе они как будто переменились ролями - Гиппиус являлась мужским началом, а Мережковский - женским».
По многочисленным свидетельствам, Гиппиус тяжело переживала смерть Мережковского. «Я умерла, осталось умереть только телу», - призналась она в 1941 году.
Библиография Дмитрия Мережковского:
Романы:
«Христос и Антихрист»
«Смерть богов. Юлиан Отступник» (1895)
«Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» (1901)
«Антихрист. Пётр и Алексей» (1904-1905)
«Царство Зверя»
Дилогия о примордиальном Христианстве
«Рождение богов. Тутанкамон на Крите» (1924)
«Мессия» (1926-1927)
Итальянские новеллы
«Рыцарь за прялкой» (1895)
«Святой Сатир» (1895)
«Из Анатоля Франса» (1895)
«Любовь сильнее смерти» (1896)
«Наука любви» (1896)
«Железное кольцо» (1897)
«Превращение» (1897)
«Флорентийская новелла XV века» (1897)
«Хроника XVI века»
«Микеланжело»
Исторические эссе:
Дилогия о государственных деятелях
«Наполеон» (1929)
«Данте» (1939)
«Лица святых от Иисуса к нам»
«Павел. Августин» (1936)
«Св. Франциск Ассизский» (1938)
«Жанна д’Арк и Третье Царство Духа» (1938)
«Реформаторы»
«Лютер»
«Кальвин»
«Паскаль»
«Испанские мистики» (1940-1941)
«Св. Тереза Иисуса»
«Св. Иоанн Креста»
«Маленькая Тереза»
Поэзия:
«Стихотворения, 1883-1887» (1888)
«Символы. Песни и поэмы» С-Петербург, Изд. А. С. Суворина (1892)
«Новые стихотворения» (1891-1895)
«Собрание стихов» (1904, 1910)
Критика и публицистика:
«О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (1892)
«Вечные спутники» (1897)
«Лев Толстой и Достоевский» (1901-1902)
«Гоголь и чёрт» М., 1906, она же «Гоголь. Творчество, жизнь и религия»» (1909)
«Чехов и Горький»
«Пушкин»
«М. Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества»
«Грядущий хам» (1905), сборник статей
«Царь и революция» (1907), сборник статей
«Не мир, но меч; К будущей критике христианства» (1908)
«Было и будет. Дневник» (1910-1914)
«Невоенный дневник» (1914-1916)
«Больная Россия» (1906)
«В тихом омуте»
«Лица»
«Акрополь»
«Россия и большевизм»
«Царство Антихриста»
Драматургия:
«Борис Годунов» (киносценарий)
«Данте» (киносценарий)
«Будет радость»
«Гроза прошла»
«Маков цвет»
«Митридан и Натан»
«Осень»
«Романтики»
«Царевич Алексей»
«Юлиан-Отступник»
Переводы:
Переводы из Эдгара Аллана По. «Ворон». Поэма (1890)
«Легеля». Фантастическая новелла (1893)
«Гете. Фауст. Пролог на небесах» (1892), перевод с немецкого
«Из книги Та-Хио (Великая наука)»
«Из книги Чунг-Юнг (Неизменность в середине)»
«Из книги Лунь-Ю (Беседы мудрецов)»
«Из книги Менг-Тсе (Менция)»