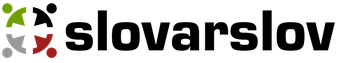До соприкосновения с неприятелем было верст восемьдесят. Полезные энциклопедии
Южная Польша — одно из красивейших мест России. Мы ехали верст восемьдесят от станции железной дороги до соприкосновения с неприятелем, и я успел вдоволь налюбоваться ею. Гор, утехи туристов, там нет, но на что равнинному жителю горы? Есть леса, есть воды, и этого довольно вполне.
Леса сосновые, саженые, и, проезжая по ним, вдруг видишь узкие, прямые, как стрелы, аллеи, полные зеленым сумраком с сияющим просветом вдали, — словно храмы ласковых и задумчивых богов древней, еще языческой Польши. Там водятся олени и косули, с куриной повадкой пробегают золотистые фазаны, в тихие ночи слышно, как чавкает и ломает кусты кабан.
Среди широких отмелей размытых берегов лениво извиваются реки; широкие, с узенькими между них перешейками, озера блестят и отражают небо, как зеркала из полированного металла; у старых мшистых мельниц тихие запруды с нежно журчащими струйками воды и каким-то розово-красным кустарником, странно напоминающим человеку его детство.
В таких местах, что бы ты ни делал — любил или воевал, — все представляется значительным и чудесным.
Это были дни больших сражений. С утра до поздней ночи мы слышали грохотанье пушек, развалины еще дымились, и то там, то сям кучки жителей зарывали трупы людей и лошадей. Я был назначен в летучую почту на станции К. Мимо нее уже проходили поезда, хотя чаще всего под обстрелом. Из жителей там остались только железнодорожные служащие; они встретили нас с изумительным радушием. Четыре машиниста спорили за честь приютить наш маленький отряд. Когда наконец один одержал верх, остальные явились к нему в гости и принялись обмениваться впечатлениями. Надо было видеть, как горели от восторга их глаза, когда они рассказывали, что вблизи их поезда рвалась шрапнель, в паровоз ударила пуля. Чувствовалось, что только недостаток инициативы помешал им записаться добровольцами. Мы расстались друзьями, обещали друг другу писать, но разве такие обещания когда-нибудь сдерживаются?
На другой день, среди милого безделья покойного бивака, когда читаешь желтые книжки Универсальной библиотеки, чистишь винтовку или попросту болтаешь с хорошенькими паненками, нам внезапно скомандовали седлать, и так же внезапно переменным аллюром мы сразу прошли верст пятьдесят. Мимо мелькали одно за другим сонные местечки, тихие и величественные усадьбы, на порогах домов старухи в наскоро наброшенных на голову платках вздыхали, бормоча: «Ой, Матка Бозка». И, выезжая временами на шоссе, мы слушали глухой, как морской прибой, стук бесчисленных копыт и догадывались, что впереди и позади нас идут другие кавалерийские части и что нам предстоит большое дело.
Ночь далеко перевалила за половину, когда мы стали на бивак. Утром нам пополнили запас патронов, и мы двинулись дальше. Местность была пустынная: какие-то буераки, низкорослые ели, холмы. Мы построились в боевую линию, назначили, кому спешиваться, кому быть коноводом, выслали вперед разъезды и стали ждать. Поднявшись на пригорок и скрытый деревьями, я видел перед собой пространство приблизительно с версту. По нему там и сям были рассеяны наши заставы. Они были так хорошо скрыты, что большинство я разглядел лишь тогда, когда, отстреливаясь, они стали уходить. Почти следом за ними показались германцы. В поле моего зрения попали три колонны, двигавшиеся шагах в пятистах друг от друга.
Они шли густыми толпами и пели. Это была не какая-нибудь определенная песня и даже не наше дружное «ура», а две или три ноты, чередующиеся со свирепой и угрюмой энергией. Я не сразу понял, что поющие — мертвецки пьяны. Так странно было слышать это пение, что я не замечал ни грохота наших орудий, ни ружейной пальбы, ни частого, дробного стука пулеметов. Дикое «а…а…а…» властно покорило мое сознание. Я видел только, как над самыми головами врагов взвиваются облачки шрапнелей, как падают передние ряды, как другие становятся на их место и продвигаются на несколько шагов, чтобы лечь и дать место следующим. Похоже было на разлив весенних вод, — те же медленность и неуклонность.
Но вот наступила и моя очередь вступить в бой. Послышалась команда: «Ложись… прицел восемьсот… эскадрон, пли», и я уже ни о чем не думал, а только стрелял и заряжал, стрелял и заряжал. Лишь где-то в глубине сознанья жила уверенность, что все будет как нужно, что в должный момент нам скомандуют идти в атаку или садиться на коней и тем или другим мы приблизим ослепительную радость последней победы.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Поздно ночью мы отошли на бивак. . . . . в большое имение.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . В комнатке садовника мне его жена вскипятила кварту молока, я поджарил в сале колбасу, и мой ужин разделили со мной мои гости: вольноопределяющийся, которому только что убитая под ним лошадь отдавила ногу, и вахмистр со свежей ссадиной на носу, его так поцарапала пуля. Мы уже закурили и мирно беседовали, когда случайно забредший к нам унтер сообщил, что от нашего эскадрона высылается разъезд. Я внимательно себя проэкзаменовал и увидел, что я выспался или, вернее, выдремался в снегу, что я сыт, согрелся и что нет основания мне не ехать. Правда, первый миг неприятно было выйти из теплой, уютной комнаты на холодный и пустынный двор, но это чувство сменилось бодрым оживлением, едва мы нырнули по невидной дороге во мрак, навстречу неизвестности и опасности.
Разъезд был дальний, и поэтому офицер дал нам вздремнуть, часа три, на каком-то сеновале. Ничто так не освежает, как короткий сон, и наутро мы ехали уже совсем бодрые, освещаемые бледным, но все же милым солнцем. Нам было поручено наблюдать район версты в четыре и сообщать обо всем, что мы заметим. Местность была совершенно ровная, и перед нами как на ладони виднелись три деревни. Одна была занята нами, о двух других ничего не было известно.
Держа винтовки в руках, мы осторожно въехали в ближайшую деревню, проехали ее до конца и, не обнаружив неприятеля, с чувством полного удовлетворения напились парного молока, вынесенного нам красивой словоохотливой старухой. Потом офицер, отозвав меня в сторону, сообщил, что хочет дать мне самостоятельное поручение ехать старшим над двумя дозорными в следующую деревню. Поручение пустяшное, но все-таки серьезное, если принять во внимание мою неопытность в искусстве войны, и главное — первое, в котором я мог проявить свою инициативу. Кто не знает, что во всяком деле начальные шаги приятнее всех остальных.
Я решил идти не лавой, то есть в ряд, на некотором расстоянии друг от друга, а цепочкой, то есть один за другим. Таким образом, я подвергал меньшей опасности людей и получал возможность скорее сообщить разъезду что-нибудь новое. Разъезд следовал за нами. Мы въехали в деревню и оттуда заметили большую колонну германцев, двигавшуюся верстах в двух от нас. Офицер остановился, чтобы написать донесение, я для очистки совести поехал дальше. Круто загибавшаяся дорога вела к мельнице. Я увидел около нее кучку спокойно стоявших жителей и, зная, что они всегда удирают, предвидя столкновение, в котором может достаться и им шальная пуля, рысью подъехал, чтобы расспросить о немцах. Но едва мы обменялись приветствиями, как они с искаженными лицами бросились врассыпную, и передо мной взвилось облачко пыли, а сзади послышался характерный треск винтовки. Я оглянулся.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . На той дороге, по которой я только что проехал, куча всадников и пеших в черных, жутко чужого цвета шинелях изумленно смотрела на меня. Очевидно, меня только что заметили. Они были шагах в тридцати.
Я понял, что на этот раз опасность действительно велика. Дорога к разъезду мне была отрезана, с двух других сторон двигались неприятельские колонны. Оставалось скакать прямо от немцев, но там далеко раскинулось вспаханное поле, по которому нельзя идти галопом, и я десять раз был бы подстрелен, прежде чем вышел бы из сферы огня. Я выбрал среднее и, огибая врага, помчался перед его фронтом к дороге, по которой ушел наш разъезд. Это была трудная минута моей жизни. Лошадь спотыкалась о мерзлые комья, пули свистели мимо ушей, взрывали землю передо мной и рядом со мной, одна оцарапала луку моего седла. Я не отрываясь смотрел на врагов. Мне были ясно видны их лица, растерянные в момент заряжания, сосредоточенные в момент выстрела. Невысокий пожилой офицер, странно вытянув руку, стрелял в меня из револьвера. Этот звук выделялся каким-то дискантом среди остальных. Два всадника выскочили, чтобы преградить мне дорогу. Я выхватил шашку, они замялись. Может быть, они просто побоялись, что их подстрелят их же товарищи.
Все это в ту минуту я запомнил лишь зрительной и слуховой памятью, осознал же это много позже. Тогда я только придерживал лошадь и бормотал молитву Богородице, тут же мною сочиненную и сразу забытую по миновании опасности.
Но вот и конец пахотному полю — и зачем только люди придумали земледелие?! — вот канава, которую я беру почти бессознательно, вот гладкая дорога, по которой я полным карьером догоняю свой разъезд. Позади него, не обращая внимания на пули, сдерживает свою лошадь офицер. Дождавшись меня, он тоже переходит в карьер и говорит со вздохом облегчения: «Ну, слава Богу! Было бы ужасно глупо, если б вас убили». Я вполне с ним согласился.
Остаток дня мы провели на крыше одиноко стоящей халупы, болтая и посматривая в бинокль. Германская колонна, которую мы заметили раньше, попала под шрапнель и повернула обратно. Зато разъезды шныряли по разным направлениям. Порой они сталкивались с нашими, и тогда до нас долетал звук выстрелов. Мы ели вареную картошку, по очереди курили одну и ту же трубку.
Южная Польша — одно из красивейших мест России. Мы ехали верст восемьдесят от станции железной дороги до соприкосновения с неприятелем, и я успел вдоволь налюбоваться ею. Гор, утехи туристов, там нет, но на что равнинному жителю горы? Есть леса, есть воды, и этого довольно вполне.
Леса сосновые, саженые, и, проезжая по ним, вдруг видишь узкие, прямые, как стрелы, аллеи, полные зеленым сумраком с сияющим просветом вдали, — словно храмы ласковых и задумчивых богов древней, еще языческой Польши. Там водятся олени и косули, с куриной повадкой пробегают золотистые фазаны, в тихие ночи слышно, как чавкает и ломает кусты кабан.
Среди широких отмелей размытых берегов лениво извиваются реки; широкие, с узенькими между них перешейками, озера блестят и отражают небо, как зеркала из полированного металла; у старых мшистых мельниц тихие запруды с нежно журчащими струйками воды и каким-то розово-красным кустарником, странно напоминающим человеку его детство.
В таких местах, что бы ты ни делал — любил или воевал, — все представляется значительным и чудесным.
Это были дни больших сражений. С утра до поздней ночи мы слышали грохотанье пушек, развалины еще дымились, и то там, то сям кучки жителей зарывали трупы людей и лошадей. Я был назначен в летучую почту на станции К. Мимо нее уже проходили поезда, хотя чаще всего под обстрелом. Из жителей там остались только железнодорожные служащие; они встретили нас с изумительным радушием. Четыре машиниста спорили за честь приютить наш маленький отряд. Когда наконец один одержал верх, остальные явились к нему в гости и принялись обмениваться впечатлениями. Надо было видеть, как горели от восторга их глаза, когда они рассказывали, что вблизи их поезда рвалась шрапнель, в паровоз ударила пуля. Чувствовалось, что только недостаток инициативы помешал им записаться добровольцами. Мы расстались друзьями, обещали друг другу писать, но разве такие обещания когда-нибудь сдерживаются?
На другой день, среди милого безделья покойного бивака, когда читаешь желтые книжки Универсальной библиотеки, чистишь винтовку или попросту болтаешь с хорошенькими паненками, нам внезапно скомандовали седлать, и так же внезапно переменным аллюром мы сразу прошли верст пятьдесят. Мимо мелькали одно за другим сонные местечки, тихие и величественные усадьбы, на порогах домов старухи в наскоро наброшенных на голову платках вздыхали, бормоча: «Ой, Матка Бозка». И, выезжая временами на шоссе, мы слушали глухой, как морской прибой, стук бесчисленных копыт и догадывались, что впереди и позади нас идут другие кавалерийские части и что нам предстоит большое дело.
Ночь далеко перевалила за половину, когда мы стали на бивак. Утром нам пополнили запас патронов, и мы двинулись дальше. Местность была пустынная: какие-то буераки, низкорослые ели, холмы. Мы построились в боевую линию, назначили, кому спешиваться, кому быть коноводом, выслали вперед разъезды и стали ждать. Поднявшись на пригорок и скрытый деревьями, я видел перед собой пространство приблизительно с версту. По нему там и сям были рассеяны наши заставы. Они были так хорошо скрыты, что большинство я разглядел лишь тогда, когда, отстреливаясь, они стали уходить. Почти следом за ними показались германцы. В поле моего зрения попали три колонны, двигавшиеся шагах в пятистах друг от друга.
Они шли густыми толпами и пели. Это была не какая-нибудь определенная песня и даже не наше дружное «ура», а две или три ноты, чередующиеся со свирепой и угрюмой энергией. Я не сразу понял, что поющие — мертвецки пьяны. Так странно было слышать это пение, что я не замечал ни грохота наших орудий, ни ружейной пальбы, ни частого, дробного стука пулеметов. Дикое «а…а…а…» властно покорило мое сознание. Я видел только, как над самыми головами врагов взвиваются облачки шрапнелей, как падают передние ряды, как другие становятся на их место и продвигаются на несколько шагов, чтобы лечь и дать место следующим. Похоже было на разлив весенних вод, — те же медленность и неуклонность.
Но вот наступила и моя очередь вступить в бой. Послышалась команда: «Ложись… прицел восемьсот… эскадрон, пли», и я уже ни о чем не думал, а только стрелял и заряжал, стрелял и заряжал. Лишь где-то в глубине сознанья жила уверенность, что все будет как нужно, что в должный момент нам скомандуют идти в атаку или садиться на коней и тем или другим мы приблизим ослепительную радость последней победы.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Поздно ночью мы отошли на бивак. . . . . в большое имение.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В комнатке садовника мне его жена вскипятила кварту молока, я поджарил в сале колбасу, и мой ужин разделили со мной мои гости: вольноопределяющийся, которому только что убитая под ним лошадь отдавила ногу, и вахмистр со свежей ссадиной на носу, его так поцарапала пуля. Мы уже закурили и мирно беседовали, когда случайно забредший к нам унтер сообщил, что от нашего эскадрона высылается разъезд. Я внимательно себя проэкзаменовал и увидел, что я выспался или, вернее, выдремался в снегу, что я сыт, согрелся и что нет основания мне не ехать. Правда, первый миг неприятно было выйти из теплой, уютной комнаты на холодный и пустынный двор, но это чувство сменилось бодрым оживлением, едва мы нырнули по невидной дороге во мрак, навстречу неизвестности и опасности.
Разъезд был дальний, и поэтому офицер дал нам вздремнуть, часа три, на каком-то сеновале. Ничто так не освежает, как короткий сон, и наутро мы ехали уже совсем бодрые, освещаемые бледным, но все же милым солнцем. Нам было поручено наблюдать район версты в четыре и сообщать обо всем, что мы заметим. Местность была совершенно ровная, и перед нами как на ладони виднелись три деревни. Одна была занята нами, о двух других ничего не было известно.
Держа винтовки в руках, мы осторожно въехали в ближайшую деревню, проехали ее до конца и, не обнаружив неприятеля, с чувством полного удовлетворения напились парного молока, вынесенного нам красивой словоохотливой старухой. Потом офицер, отозвав меня в сторону, сообщил, что хочет дать мне самостоятельное поручение ехать старшим над двумя дозорными в следующую деревню. Поручение пустяшное, но все-таки серьезное, если принять во внимание мою неопытность в искусстве войны, и главное — первое, в котором я мог проявить свою инициативу. Кто не знает, что во всяком деле начальные шаги приятнее всех остальных.
Я решил идти не лавой, то есть в ряд, на некотором расстоянии друг от друга, а цепочкой, то есть один за другим. Таким образом, я подвергал меньшей опасности людей и получал возможность скорее сообщить разъезду что-нибудь новое. Разъезд следовал за нами. Мы въехали в деревню и оттуда заметили большую колонну германцев, двигавшуюся верстах в двух от нас. Офицер остановился, чтобы написать донесение, я для очистки совести поехал дальше. Круто загибавшаяся дорога вела к мельнице. Я увидел около нее кучку спокойно стоявших жителей и, зная, что они всегда удирают, предвидя столкновение, в котором может достаться и им шальная пуля, рысью подъехал, чтобы расспросить о немцах. Но едва мы обменялись приветствиями, как они с искаженными лицами бросились врассыпную, и передо мной взвилось облачко пыли, а сзади послышался характерный треск винтовки. Я оглянулся.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
На той дороге, по которой я только что проехал, куча всадников и пеших в черных, жутко чужого цвета шинелях изумленно смотрела на меня. Очевидно, меня только что заметили. Они были шагах в тридцати.
Я понял, что на этот раз опасность действительно велика. Дорога к разъезду мне была отрезана, с двух других сторон двигались неприятельские колонны. Оставалось скакать прямо от немцев, но там далеко раскинулось вспаханное поле, по которому нельзя идти галопом, и я десять раз был бы подстрелен, прежде чем вышел бы из сферы огня. Я выбрал среднее и, огибая врага, помчался перед его фронтом к дороге, по которой ушел наш разъезд. Это была трудная минута моей жизни. Лошадь спотыкалась о мерзлые комья, пули свистели мимо ушей, взрывали землю передо мной и рядом со мной, одна оцарапала луку моего седла. Я не отрываясь смотрел на врагов. Мне были ясно видны их лица, растерянные в момент заряжания, сосредоточенные в момент выстрела. Невысокий пожилой офицер, странно вытянув руку, стрелял в меня из револьвера. Этот звук выделялся каким-то дискантом среди остальных. Два всадника выскочили, чтобы преградить мне дорогу. Я выхватил шашку, они замялись. Может быть, они просто побоялись, что их подстрелят их же товарищи.
Все это в ту минуту я запомнил лишь зрительной и слуховой памятью, осознал же это много позже. Тогда я только придерживал лошадь и бормотал молитву Богородице, тут же мною сочиненную и сразу забытую по миновании опасности.
Но вот и конец пахотному полю — и зачем только люди придумали земледелие?! — вот канава, которую я беру почти бессознательно, вот гладкая дорога, по которой я полным карьером догоняю свой разъезд. Позади него, не обращая внимания на пули, сдерживает свою лошадь офицер. Дождавшись меня, он тоже переходит в карьер и говорит со вздохом облегчения: «Ну, слава Богу! Было бы ужасно глупо, если б вас убили». Я вполне с ним согласился.
Остаток дня мы провели на крыше одиноко стоящей халупы, болтая и посматривая в бинокль. Германская колонна, которую мы заметили раньше, попала под шрапнель и повернула обратно. Зато разъезды шныряли по разным направлениям. Порой они сталкивались с нашими, и тогда до нас долетал звук выстрелов. Мы ели вареную картошку, по очереди курили одну и ту же трубку.
юБУФШ ЧФПТБС
аЦОБС рПМШЫБ ПДОП ЙЪ ЛТБУЙЧЕКЫЙИ НЕУФ тПУУЙЙ. нЩ ЕИБМЙ ЧЕТУФ ЧПУЕНШДЕУСФ ПФ УФБОГЙЙ ЦЕМЕЪОПК ДПТПЗЙ ДП УПРТЙЛПУОПЧЕОЙС У ОЕРТЙСФЕМЕН, Й С ХУРЕМ ЧДПЧПМШ ОБМАВПЧБФШУС ЕА. зПТ, ХФЕИЙ ФХТЙУФПЧ, ФБН ОЕФ, ОП ОБ ЮФП ТБЧОЙООПНХ ЦЙФЕМА ЗПТЩ? еУФШ МЕУБ, ЕУФШ ЧПДЩ, Й ЬФПЗП ДПЧПМШОП ЧРПМОЕ.
мЕУБ УПУОПЧЩЕ, УБЦЕОЩЕ, Й, РТПЕЪЦБС РП ОЙН, ЧДТХЗ ЧЙДЙЫШ ХЪЛЙЕ, РТСНЩЕ, ЛБЛ УФТЕМЩ, БММЕЙ, РПМОЩЕ ЪЕМЕОЩН УХНТБЛПН У УЙСАЭЙН РТПУЧЕФПН ЧДБМЙ, УМПЧОП ИТБНЩ МБУЛПЧЩИ Й ЪБДХНЮЙЧЩИ ВПЗПЧ ДТЕЧОЕК, ЕЭЕ СЪЩЮЕУЛПК рПМШЫЙ. фБН ЧПДСФУС ПМЕОЙ Й ЛПУХМЙ, У ЛХТЙОПК РПЧБДЛПК РТПВЕЗБАФ ЪПМПФЙУФЩЕ ЖБЪБОЩ, Ч ФЙИЙЕ ОПЮЙ УМЩЫОП, ЛБЛ ЮБЧЛБЕФ Й МПНБЕФ ЛХУФЩ ЛБВБО.
уТЕДЙ ЫЙТПЛЙИ ПФНЕМЕК ТБЪНЩФЩИ ВЕТЕЗПЧ МЕОЙЧП ЙЪЧЙЧБАФУС ТЕЛЙ; ЫЙТПЛЙЕ, У ХЪЕОШЛЙНЙ НЕЦДХ ОЙИ РЕТЕЫЕКЛБНЙ, ПЪЕТБ ВМЕУФСФ Й ПФТБЦБАФ ОЕВП, ЛБЛ ЪЕТЛБМБ ЙЪ РПМЙТПЧБООПЗП НЕФБММБ; Х УФБТЩИ НЫЙУФЩИ НЕМШОЙГ ФЙИЙЕ ЪБРТХДЩ У ОЕЦОП ЦХТЮБЭЙНЙ УФТХКЛБНЙ ЧПДЩ Й ЛБЛЙН-ФП ТПЪПЧП-ЛТБУОЩН ЛХУФБТОЙЛПН, УФТБООП ОБРПНЙОБАЭЙН ЮЕМПЧЕЛХ ЕЗП ДЕФУФЧП.
ч ФБЛЙИ НЕУФБИ, ЮФП ВЩ ФЩ ОЙ ДЕМБМ МАВЙМ ЙМЙ ЧПЕЧБМ, ЧУЕ РТЕДУФБЧМСЕФУС ЪОБЮЙФЕМШОЩН Й ЮХДЕУОЩН.
ьФП ВЩМЙ ДОЙ ВПМШЫЙИ УТБЦЕОЙК. у ХФТБ ДП РПЪДОЕК ОПЮЙ НЩ УМЩЫБМЙ ЗТПИПФБОШЕ РХЫЕЛ, ТБЪЧБМЙОЩ ЕЭЕ ДЩНЙМЙУШ, Й ФП ФБН, ФП УСН ЛХЮЛЙ ЦЙФЕМЕК ЪБТЩЧБМЙ ФТХРЩ МАДЕК Й МПЫБДЕК. с ВЩМ ОБЪОБЮЕО Ч МЕФХЮХА РПЮФХ ОБ УФБОГЙЙ л. нЙНП ОЕЕ ХЦЕ РТПИПДЙМЙ РПЕЪДБ, ИПФС ЮБЭЕ ЧУЕЗП РПД ПВУФТЕМПН. йЪ ЦЙФЕМЕК ФБН ПУФБМЙУШ ФПМШЛП ЦЕМЕЪОПДПТПЦОЩЕ УМХЦБЭЙЕ; ПОЙ ЧУФТЕФЙМЙ ОБУ У ЙЪХНЙФЕМШОЩН ТБДХЫЙЕН. юЕФЩТЕ НБЫЙОЙУФБ УРПТЙМЙ ЪБ ЮЕУФШ РТЙАФЙФШ ОБЫ НБМЕОШЛЙК ПФТСД. лПЗДБ ОБЛПОЕГ ПДЙО ПДЕТЦБМ ЧЕТИ, ПУФБМШОЩЕ СЧЙМЙУШ Л ОЕНХ Ч ЗПУФЙ Й РТЙОСМЙУШ ПВНЕОЙЧБФШУС ЧРЕЮБФМЕОЙСНЙ. оБДП ВЩМП ЧЙДЕФШ, ЛБЛ ЗПТЕМЙ ПФ ЧПУФПТЗБ ЙИ ЗМБЪБ, ЛПЗДБ ПОЙ ТБУУЛБЪЩЧБМЙ, ЮФП ЧВМЙЪЙ ЙИ РПЕЪДБ ТЧБМБУШ ЫТБРОЕМШ, Ч РБТПЧПЪ ХДБТЙМБ РХМС. юХЧУФЧПЧБМПУШ, ЮФП ФПМШЛП ОЕДПУФБФПЛ ЙОЙГЙБФЙЧЩ РПНЕЫБМ ЙН ЪБРЙУБФШУС ДПВТПЧПМШГБНЙ. нЩ ТБУУФБМЙУШ ДТХЪШСНЙ, ПВЕЭБМЙ ДТХЗ ДТХЗХ РЙУБФШ, ОП ТБЪЧЕ ФБЛЙЕ ПВЕЭБОЙС ЛПЗДБ-ОЙВХДШ УДЕТЦЙЧБАФУС?
оБ ДТХЗПК ДЕОШ, УТЕДЙ НЙМПЗП ВЕЪДЕМШС РПЛПКОПЗП ВЙЧБЛБ, ЛПЗДБ ЮЙФБЕЫШ ЦЕМФЩЕ ЛОЙЦЛЙ хОЙЧЕТУБМШОПК ВЙВМЙПФЕЛЙ, ЮЙУФЙЫШ ЧЙОФПЧЛХ ЙМЙ РПРТПУФХ ВПМФБЕЫШ У ИПТПЫЕОШЛЙНЙ РБОЕОЛБНЙ, ОБН ЧОЕЪБРОП УЛПНБОДПЧБМЙ УЕДМБФШ, Й ФБЛ ЦЕ ЧОЕЪБРОП РЕТЕНЕООЩН БММАТПН НЩ УТБЪХ РТПЫМЙ ЧЕТУФ РСФШДЕУСФ. нЙНП НЕМШЛБМЙ ПДОП ЪБ ДТХЗЙН УПООЩЕ НЕУФЕЮЛЙ, ФЙИЙЕ Й ЧЕМЙЮЕУФЧЕООЩЕ ХУБДШВЩ, ОБ РПТПЗБИ ДПНПЧ УФБТХИЙ Ч ОБУЛПТП ОБВТПЫЕООЩИ ОБ ЗПМПЧХ РМБФЛБИ ЧЪДЩИБМЙ, ВПТНПЮБ: «пК, нБФЛБ вПЪЛБ». й, ЧЩЕЪЦБС ЧТЕНЕОБНЙ ОБ ЫПУУЕ, НЩ УМХЫБМЙ ЗМХИПК, ЛБЛ НПТУЛПК РТЙВПК, УФХЛ ВЕУЮЙУМЕООЩИ ЛПРЩФ Й ДПЗБДЩЧБМЙУШ, ЮФП ЧРЕТЕДЙ Й РПЪБДЙ ОБУ ЙДХФ ДТХЗЙЕ ЛБЧБМЕТЙКУЛЙЕ ЮБУФЙ Й ЮФП ОБН РТЕДУФПЙФ ВПМШЫПЕ ДЕМП.
оПЮШ ДБМЕЛП РЕТЕЧБМЙМБ ЪБ РПМПЧЙОХ, ЛПЗДБ НЩ УФБМЙ ОБ ВЙЧБЛ. хФТПН ОБН РПРПМОЙМЙ ЪБРБУ РБФТПОПЧ, Й НЩ ДЧЙОХМЙУШ ДБМШЫЕ. нЕУФОПУФШ ВЩМБ РХУФЩООБС: ЛБЛЙЕ-ФП ВХЕТБЛЙ, ОЙЪЛПТПУМЩЕ ЕМЙ, ИПМНЩ. нЩ РПУФТПЙМЙУШ Ч ВПЕЧХА МЙОЙА, ОБЪОБЮЙМЙ, ЛПНХ УРЕЫЙЧБФШУС, ЛПНХ ВЩФШ ЛПОПЧПДПН, ЧЩУМБМЙ ЧРЕТЕД ТБЪЯЕЪДЩ Й УФБМЙ ЦДБФШ. рПДОСЧЫЙУШ ОБ РТЙЗПТПЛ Й УЛТЩФЩК ДЕТЕЧШСНЙ, С ЧЙДЕМ РЕТЕД УПВПК РТПУФТБОУФЧП РТЙВМЙЪЙФЕМШОП У ЧЕТУФХ. рП ОЕНХ ФБН Й УСН ВЩМЙ ТБУУЕСОЩ ОБЫЙ ЪБУФБЧЩ. пОЙ ВЩМЙ ФБЛ ИПТПЫП УЛТЩФЩ, ЮФП ВПМШЫЙОУФЧП С ТБЪЗМСДЕМ МЙЫШ ФПЗДБ, ЛПЗДБ, ПФУФТЕМЙЧБСУШ, ПОЙ УФБМЙ ХИПДЙФШ. рПЮФЙ УМЕДПН ЪБ ОЙНЙ РПЛБЪБМЙУШ ЗЕТНБОГЩ. ч РПМЕ НПЕЗП ЪТЕОЙС РПРБМЙ ФТЙ ЛПМПООЩ, ДЧЙЗБЧЫЙЕУС ЫБЗБИ Ч РСФЙУФБИ ДТХЗ ПФ ДТХЗБ.
пОЙ ЫМЙ ЗХУФЩНЙ ФПМРБНЙ Й РЕМЙ. ьФП ВЩМБ ОЕ ЛБЛБС-ОЙВХДШ ПРТЕДЕМЕООБС РЕУОС Й ДБЦЕ ОЕ ОБЫЕ ДТХЦОПЕ «ХТБ», Б ДЧЕ ЙМЙ ФТЙ ОПФЩ, ЮЕТЕДХАЭЙЕУС УП УЧЙТЕРПК Й ХЗТАНПК ЬОЕТЗЙЕК. с ОЕ УТБЪХ РПОСМ, ЮФП РПАЭЙЕ НЕТФЧЕГЛЙ РШСОЩ. фБЛ УФТБООП ВЩМП УМЩЫБФШ ЬФП РЕОЙЕ, ЮФП С ОЕ ЪБНЕЮБМ ОЙ ЗТПИПФБ ОБЫЙИ ПТХДЙК, ОЙ ТХЦЕКОПК РБМШВЩ, ОЙ ЮБУФПЗП, ДТПВОПЗП УФХЛБ РХМЕНЕФПЧ. дЙЛПЕ «Б Б Б » ЧМБУФОП РПЛПТЙМП НПЕ УПЪОБОЙЕ. с ЧЙДЕМ ФПМШЛП, ЛБЛ ОБД УБНЩНЙ ЗПМПЧБНЙ ЧТБЗПЧ ЧЪЧЙЧБАФУС ПВМБЮЛЙ ЫТБРОЕМЕК, ЛБЛ РБДБАФ РЕТЕДОЙЕ ТСДЩ, ЛБЛ ДТХЗЙЕ УФБОПЧСФУС ОБ ЙИ НЕУФП Й РТПДЧЙЗБАФУС ОБ ОЕУЛПМШЛП ЫБЗПЧ, ЮФПВЩ МЕЮШ Й ДБФШ НЕУФП УМЕДХАЭЙН. рПИПЦЕ ВЩМП ОБ ТБЪМЙЧ ЧЕУЕООЙИ ЧПД, ФЕ ЦЕ НЕДМЕООПУФШ Й ОЕХЛМПООПУФШ.
оП ЧПФ ОБУФХРЙМБ Й НПС ПЮЕТЕДШ ЧУФХРЙФШ Ч ВПК. рПУМЩЫБМБУШ ЛПНБОДБ: «мПЦЙУШ РТЙГЕМ ЧПУЕНШУПФ ЬУЛБДТПО, РМЙ», Й С ХЦЕ ОЙ П ЮЕН ОЕ ДХНБМ, Б ФПМШЛП УФТЕМСМ Й ЪБТСЦБМ, УФТЕМСМ Й ЪБТСЦБМ. мЙЫШ ЗДЕ-ФП Ч ЗМХВЙОЕ УПЪОБОШС ЦЙМБ ХЧЕТЕООПУФШ, ЮФП ЧУЕ ВХДЕФ ЛБЛ ОХЦОП, ЮФП Ч ДПМЦОЩК НПНЕОФ ОБН УЛПНБОДХАФ ЙДФЙ Ч БФБЛХ ЙМЙ УБДЙФШУС ОБ ЛПОЕК Й ФЕН ЙМЙ ДТХЗЙН НЩ РТЙВМЙЪЙН ПУМЕРЙФЕМШОХА ТБДПУФШ РПУМЕДОЕК РПВЕДЩ.
рПЪДОП ОПЮША НЩ ПФПЫМЙ ОБ ВЙЧБЛ [...] Ч ВПМШЫПЕ ЙНЕОЙЕ.
[...] ч ЛПНОБФЛЕ УБДПЧОЙЛБ НОЕ ЕЗП ЦЕОБ ЧУЛЙРСФЙМБ ЛЧБТФХ НПМПЛБ, С РПДЦБТЙМ Ч УБМЕ ЛПМВБУХ, Й НПК ХЦЙО ТБЪДЕМЙМЙ УП НОПК НПЙ ЗПУФЙ: ЧПМШОППРТЕДЕМСАЭЙКУС, ЛПФПТПНХ ФПМШЛП ЮФП ХВЙФБС РПД ОЙН МПЫБДШ ПФДБЧЙМБ ОПЗХ, Й ЧБИНЙУФТ УП УЧЕЦЕК УУБДЙОПК ОБ ОПУХ, ЕЗП ФБЛ РПГБТБРБМБ РХМС. нЩ ХЦЕ ЪБЛХТЙМЙ Й НЙТОП ВЕУЕДПЧБМЙ, ЛПЗДБ УМХЮБКОП ЪБВТЕДЫЙК Л ОБН ХОФЕТ УППВЭЙМ, ЮФП ПФ ОБЫЕЗП ЬУЛБДТПОБ ЧЩУЩМБЕФУС ТБЪЯЕЪД. с ЧОЙНБФЕМШОП УЕВС РТПЬЛЪБНЕОПЧБМ Й ХЧЙДЕМ, ЮФП С ЧЩУРБМУС ЙМЙ, ЧЕТОЕЕ, ЧЩДТЕНБМУС Ч УОЕЗХ, ЮФП С УЩФ, УПЗТЕМУС Й ЮФП ОЕФ ПУОПЧБОЙС НОЕ ОЕ ЕИБФШ. рТБЧДБ, РЕТЧЩК НЙЗ ОЕРТЙСФОП ВЩМП ЧЩКФЙ ЙЪ ФЕРМПК, ХАФОПК ЛПНОБФЩ ОБ ИПМПДОЩК Й РХУФЩООЩК ДЧПТ, ОП ЬФП ЮХЧУФЧП УНЕОЙМПУШ ВПДТЩН ПЦЙЧМЕОЙЕН, ЕДЧБ НЩ ОЩТОХМЙ РП ОЕЧЙДОПК ДПТПЗЕ ЧП НТБЛ, ОБЧУФТЕЮХ ОЕЙЪЧЕУФОПУФЙ Й ПРБУОПУФЙ.
тБЪЯЕЪД ВЩМ ДБМШОЙК, Й РПЬФПНХ ПЖЙГЕТ ДБМ ОБН ЧЪДТЕНОХФШ, ЮБУБ ФТЙ, ОБ ЛБЛПН-ФП УЕОПЧБМЕ. оЙЮФП ФБЛ ОЕ ПУЧЕЦБЕФ, ЛБЛ ЛПТПФЛЙК УПО, Й ОБХФТП НЩ ЕИБМЙ ХЦЕ УПЧУЕН ВПДТЩЕ, ПУЧЕЭБЕНЩЕ ВМЕДОЩН, ОП ЧУЕ ЦЕ НЙМЩН УПМОГЕН. оБН ВЩМП РПТХЮЕОП ОБВМАДБФШ ТБКПО ЧЕТУФЩ Ч ЮЕФЩТЕ Й УППВЭБФШ ПВП ЧУЕН, ЮФП НЩ ЪБНЕФЙН. нЕУФОПУФШ ВЩМБ УПЧЕТЫЕООП ТПЧОБС, Й РЕТЕД ОБНЙ ЛБЛ ОБ МБДПОЙ ЧЙДОЕМЙУШ ФТЙ ДЕТЕЧОЙ. пДОБ ВЩМБ ЪБОСФБ ОБНЙ, П ДЧХИ ДТХЗЙИ ОЙЮЕЗП ОЕ ВЩМП ЙЪЧЕУФОП.
дЕТЦБ ЧЙОФПЧЛЙ Ч ТХЛБИ, НЩ ПУФПТПЦОП ЧЯЕИБМЙ Ч ВМЙЦБКЫХА ДЕТЕЧОА, РТПЕИБМЙ ЕЕ ДП ЛПОГБ Й, ОЕ ПВОБТХЦЙЧ ОЕРТЙСФЕМС, У ЮХЧУФЧПН РПМОПЗП ХДПЧМЕФЧПТЕОЙС ОБРЙМЙУШ РБТОПЗП НПМПЛБ, ЧЩОЕУЕООПЗП ОБН ЛТБУЙЧПК УМПЧППИПФМЙЧПК УФБТХИПК. рПФПН ПЖЙГЕТ, ПФПЪЧБЧ НЕОС Ч УФПТПОХ, УППВЭЙМ, ЮФП ИПЮЕФ ДБФШ НОЕ УБНПУФПСФЕМШОПЕ РПТХЮЕОЙЕ ЕИБФШ УФБТЫЙН ОБД ДЧХНС ДПЪПТОЩНЙ Ч УМЕДХАЭХА ДЕТЕЧОА. рПТХЮЕОЙЕ РХУФСЫОПЕ, ОП ЧУЕ-ФБЛЙ УЕТШЕЪОПЕ, ЕУМЙ РТЙОСФШ ЧП ЧОЙНБОЙЕ НПА ОЕПРЩФОПУФШ Ч ЙУЛХУУФЧЕ ЧПКОЩ, Й ЗМБЧОПЕ РЕТЧПЕ, Ч ЛПФПТПН С НПЗ РТПСЧЙФШ УЧПА ЙОЙГЙБФЙЧХ. лФП ОЕ ЪОБЕФ, ЮФП ЧП ЧУСЛПН ДЕМЕ ОБЮБМШОЩЕ ЫБЗЙ РТЙСФОЕЕ ЧУЕИ ПУФБМШОЩИ.
с ТЕЫЙМ ЙДФЙ ОЕ МБЧПК, ФП ЕУФШ Ч ТСД, ОБ ОЕЛПФПТПН ТБУУФПСОЙЙ ДТХЗ ПФ ДТХЗБ, Б ГЕРПЮЛПК, ФП ЕУФШ ПДЙО ЪБ ДТХЗЙН. фБЛЙН ПВТБЪПН, С РПДЧЕТЗБМ НЕОШЫЕК ПРБУОПУФЙ МАДЕК Й РПМХЮБМ ЧПЪНПЦОПУФШ УЛПТЕЕ УППВЭЙФШ ТБЪЯЕЪДХ ЮФП-ОЙВХДШ ОПЧПЕ. тБЪЯЕЪД УМЕДПЧБМ ЪБ ОБНЙ. нЩ ЧЯЕИБМЙ Ч ДЕТЕЧОА Й ПФФХДБ ЪБНЕФЙМЙ ВПМШЫХА ЛПМПООХ ЗЕТНБОГЕЧ, ДЧЙЗБЧЫХАУС ЧЕТУФБИ Ч ДЧХИ ПФ ОБУ. пЖЙГЕТ ПУФБОПЧЙМУС, ЮФПВЩ ОБРЙУБФШ ДПОЕУЕОЙЕ, С ДМС ПЮЙУФЛЙ УПЧЕУФЙ РПЕИБМ ДБМШЫЕ. лТХФП ЪБЗЙВБЧЫБСУС ДПТПЗБ ЧЕМБ Л НЕМШОЙГЕ. с ХЧЙДЕМ ПЛПМП ОЕЕ ЛХЮЛХ УРПЛПКОП УФПСЧЫЙИ ЦЙФЕМЕК Й, ЪОБС, ЮФП ПОЙ ЧУЕЗДБ ХДЙТБАФ, РТЕДЧЙДС УФПМЛОПЧЕОЙЕ, Ч ЛПФПТПН НПЦЕФ ДПУФБФШУС Й ЙН ЫБМШОБС РХМС, ТЩУША РПДЯЕИБМ, ЮФПВЩ ТБУУРТПУЙФШ П ОЕНГБИ. оП ЕДЧБ НЩ ПВНЕОСМЙУШ РТЙЧЕФУФЧЙСНЙ, ЛБЛ ПОЙ У ЙУЛБЦЕООЩНЙ МЙГБНЙ ВТПУЙМЙУШ ЧТБУУЩРОХА, Й РЕТЕДП НОПК ЧЪЧЙМПУШ ПВМБЮЛП РЩМЙ, Б УЪБДЙ РПУМЩЫБМУС ИБТБЛФЕТОЩК ФТЕУЛ ЧЙОФПЧЛЙ. с ПЗМСОХМУС.
[...] оБ ФПК ДПТПЗЕ, РП ЛПФПТПК С ФПМШЛП ЮФП РТПЕИБМ, ЛХЮБ ЧУБДОЙЛПЧ Й РЕЫЙИ Ч ЮЕТОЩИ, ЦХФЛП ЮХЦПЗП ГЧЕФБ ЫЙОЕМСИ ЙЪХНМЕООП УНПФТЕМБ ОБ НЕОС. пЮЕЧЙДОП, НЕОС ФПМШЛП ЮФП ЪБНЕФЙМЙ. пОЙ ВЩМЙ ЫБЗБИ Ч ФТЙДГБФЙ.
с РПОСМ, ЮФП ОБ ЬФПФ ТБЪ ПРБУОПУФШ ДЕКУФЧЙФЕМШОП ЧЕМЙЛБ. дПТПЗБ Л ТБЪЯЕЪДХ НОЕ ВЩМБ ПФТЕЪБОБ, У ДЧХИ ДТХЗЙИ УФПТПО ДЧЙЗБМЙУШ ОЕРТЙСФЕМШУЛЙЕ ЛПМПООЩ. пУФБЧБМПУШ УЛБЛБФШ РТСНП ПФ ОЕНГЕЧ, ОП ФБН ДБМЕЛП ТБУЛЙОХМПУШ ЧУРБИБООПЕ РПМЕ, РП ЛПФПТПНХ ОЕМШЪС ЙДФЙ ЗБМПРПН, Й С ДЕУСФШ ТБЪ ВЩМ ВЩ РПДУФТЕМЕО, РТЕЦДЕ ЮЕН ЧЩЫЕМ ВЩ ЙЪ УЖЕТЩ ПЗОС. с ЧЩВТБМ УТЕДОЕЕ Й, ПЗЙВБС ЧТБЗБ, РПНЮБМУС РЕТЕД ЕЗП ЖТПОФПН Л ДПТПЗЕ, РП ЛПФПТПК ХЫЕМ ОБЫ ТБЪЯЕЪД. ьФП ВЩМБ ФТХДОБС НЙОХФБ НПЕК ЦЙЪОЙ. мПЫБДШ УРПФЩЛБМБУШ П НЕТЪМЩЕ ЛПНШС, РХМЙ УЧЙУФЕМЙ НЙНП ХЫЕК, ЧЪТЩЧБМЙ ЪЕНМА РЕТЕДП НОПК Й ТСДПН УП НОПК, ПДОБ ПГБТБРБМБ МХЛХ НПЕЗП УЕДМБ. с ОЕ ПФТЩЧБСУШ УНПФТЕМ ОБ ЧТБЗПЧ. нОЕ ВЩМЙ СУОП ЧЙДОЩ ЙИ МЙГБ, ТБУФЕТСООЩЕ Ч НПНЕОФ ЪБТСЦБОЙС, УПУТЕДПФПЮЕООЩЕ Ч НПНЕОФ ЧЩУФТЕМБ. оЕЧЩУПЛЙК РПЦЙМПК ПЖЙГЕТ, УФТБООП ЧЩФСОХЧ ТХЛХ, УФТЕМСМ Ч НЕОС ЙЪ ТЕЧПМШЧЕТБ. ьФПФ ЪЧХЛ ЧЩДЕМСМУС ЛБЛЙН-ФП ДЙУЛБОФПН УТЕДЙ ПУФБМШОЩИ. дЧБ ЧУБДОЙЛБ ЧЩУЛПЮЙМЙ, ЮФПВЩ РТЕЗТБДЙФШ НОЕ ДПТПЗХ. с ЧЩИЧБФЙМ ЫБЫЛХ, ПОЙ ЪБНСМЙУШ. нПЦЕФ ВЩФШ, ПОЙ РТПУФП РПВПСМЙУШ, ЮФП ЙИ РПДУФТЕМСФ ЙИ ЦЕ ФПЧБТЙЭЙ.
чУЕ ЬФП Ч ФХ НЙОХФХ С ЪБРПНОЙМ МЙЫШ ЪТЙФЕМШОПК Й УМХИПЧПК РБНСФША, ПУПЪОБМ ЦЕ ЬФП НОПЗП РПЪЦЕ. фПЗДБ С ФПМШЛП РТЙДЕТЦЙЧБМ МПЫБДШ Й ВПТНПФБМ НПМЙФЧХ вПЗПТПДЙГЕ, ФХФ ЦЕ НОПА УПЮЙОЕООХА Й УТБЪХ ЪБВЩФХА РП НЙОПЧБОЙЙ ПРБУОПУФЙ.
оП ЧПФ Й ЛПОЕГ РБИПФОПНХ РПМА Й ЪБЮЕН ФПМШЛП МАДЙ РТЙДХНБМЙ ЪЕНМЕДЕМЙЕ?! ЧПФ ЛБОБЧБ, ЛПФПТХА С ВЕТХ РПЮФЙ ВЕУУПЪОБФЕМШОП, ЧПФ ЗМБДЛБС ДПТПЗБ, РП ЛПФПТПК С РПМОЩН ЛБТШЕТПН ДПЗПОСА УЧПК ТБЪЯЕЪД. рПЪБДЙ ОЕЗП, ОЕ ПВТБЭБС ЧОЙНБОЙС ОБ РХМЙ, УДЕТЦЙЧБЕФ УЧПА МПЫБДШ ПЖЙГЕТ. дПЦДБЧЫЙУШ НЕОС, ПО ФПЦЕ РЕТЕИПДЙФ Ч ЛБТШЕТ Й ЗПЧПТЙФ УП ЧЪДПИПН ПВМЕЗЮЕОЙС: «оХ, УМБЧБ вПЗХ! вЩМП ВЩ ХЦБУОП ЗМХРП, ЕУМЙ В ЧБУ ХВЙМЙ». с ЧРПМОЕ У ОЙН УПЗМБУЙМУС.
пУФБФПЛ ДОС НЩ РТПЧЕМЙ ОБ ЛТЩЫЕ ПДЙОПЛП УФПСЭЕК ИБМХРЩ, ВПМФБС Й РПУНБФТЙЧБС Ч ВЙОПЛМШ. зЕТНБОУЛБС ЛПМПООБ, ЛПФПТХА НЩ ЪБНЕФЙМЙ ТБОШЫЕ, РПРБМБ РПД ЫТБРОЕМШ Й РПЧЕТОХМБ ПВТБФОП. ъБФП ТБЪЯЕЪДЩ ЫОЩТСМЙ РП ТБЪОЩН ОБРТБЧМЕОЙСН. рПТПК ПОЙ УФБМЛЙЧБМЙУШ У ОБЫЙНЙ, Й ФПЗДБ ДП ОБУ ДПМЕФБМ ЪЧХЛ ЧЩУФТЕМПЧ. нЩ ЕМЙ ЧБТЕОХА ЛБТФПЫЛХ, РП ПЮЕТЕДЙ ЛХТЙМЙ ПДОХ Й ФХ ЦЕ ФТХВЛХ.
оЕНЕГЛПЕ ОБУФХРМЕОЙЕ ВЩМП РТЙПУФБОПЧМЕОП. оБДП ВЩМП ТБУУМЕДПЧБФШ, ЛБЛЙЕ РХОЛФЩ ЪБОСМ ОЕРТЙСФЕМШ, ЗДЕ ПО ПЛБРЩЧБЕФУС, ЗДЕ РПРТПУФХ РПНЕЭБЕФ ЪБУФБЧЩ. дМС ЬФПЗП ЧЩУЩМБМУС ТСД ТБЪЯЕЪДПЧ, Ч УПУФБЧ ПДОПЗП ЙЪ ОЙИ ЧПЫЕМ Й С.
уЕТЕОШЛЙН ХФТПН НЩ ЪБФТХУЙМЙ РП ВПМШЫПК ДПТПЗЕ. оБЧУФТЕЮХ ОБН ФСОХМЙУШ ГЕМЩЕ ПВПЪЩ ВЕЦЕОГЕЧ. нХЦЮЙОЩ ПЗМСДЩЧБМЙ ОБУ У МАВПРЩФУФЧПН Й ОБДЕЦДПК, ДЕФЙ ФСОХМЙУШ Л ОБН, ЦЕОЭЙОЩ, ЧУИМЙРЩЧБС, РТЙЮЙФБМЙ: «пК, РБОЩЮЙ, ОЕ ЕЪЦБКФЕ ФХДБ, ФБН ЧБУ ЪБВШАФ ЗЕТНБОЙ».
ч ПДОПК ДЕТЕЧОЕ ТБЪЯЕЪД ПУФБОПЧЙМУС. нОЕ У ДЧХНС УПМДБФБНЙ РТЕДУФПСМП РТПЕИБФШ ДБМШЫЕ Й ПВОБТХЦЙФШ ОЕРТЙСФЕМС. уЕКЮБУ ЦЕ ЪБ ПЛПМЙГЕК ПЛБРЩЧБМЙУШ ОБЫЙ РЕИПФЙОГЩ, ДБМШЫЕ ФСОХМПУШ РПМЕ, ОБД ЛПФПТЩН ТЧБМЙУШ ЫТБРОЕМЙ, ФБН ОБ ТБУУЧЕФЕ ВЩМ ВПК Й ЗЕТНБОГЩ ПФПЫМЙ, ДБМШЫЕ ЮЕТОЕМ ОЕВПМШЫПК ЖПМШЧБТЛ. нЩ ТЩУША ОБРТБЧЙМЙУШ Л ОЕНХ.
чРТБЧП Й ЧМЕЧП РПЮФЙ ОБ ЛБЦДПК ЛЧБДТБФОПК УБЦЕОЙ ЧБМСМЙУШ ФТХРЩ ОЕНГЕЧ. ч ПДОХ НЙОХФХ С ОБУЮЙФБМ ЙИ УПТПЛ, ОП ЙИ ВЩМП НОПЗП ВПМШЫЕ. вЩМЙ Й ТБОЕОЩЕ. пОЙ ЛБЛ-ФП ЧОЕЪБРОП ОБЮЙОБМЙ ЫЕЧЕМЙФШУС, РТПРПМЪБМЙ ОЕУЛПМШЛП ЫБЗПЧ Й ЪБНЙТБМЙ ПРСФШ. пДЙО УЙДЕМ Х УБНПЗП ЛТБС ДПТПЗЙ Й, ДЕТЦБУШ ЪБ ЗПМПЧХ, ТБУЛБЮЙЧБМУС Й УФПОБМ. нЩ ИПФЕМЙ ЕЗП РПДПВТБФШ, ОП ТЕЫЙМЙ УДЕМБФШ ЬФП ОБ ПВТБФОПН РХФЙ.
дП ЖПМШЧБТЛБ НЩ ДПУЛБЛБМЙ ВМБЗПРПМХЮОП. оБУ ОЙЛФП ОЕ ПВУФТЕМСМ. оП УЕКЮБУ ЦЕ ЪБ ЖПМШЧБТЛПН ХУМЩЫБМЙ ХДБТЩ ЪБУФХРБ П НЕТЪМХА ЪЕНМА Й ЛБЛПК-ФП ОЕЪОБЛПНЩК ЗПЧПТ. нЩ УРЕЫЙМЙУШ, Й С, ДЕТЦБ ЧЙОФПЧЛХ Ч ТХЛБИ, РТПЛТБМУС ЧРЕТЕД, ЮФПВЩ ЧЩЗМСОХФШ ЙЪ-ЪБ ХЗМБ ЛТБКОЕЗП УБТБС. рЕТЕДП НОПК ЧПЪЧЩЫБМУС ОЕВПМШЫПК РТЙЗПТПЛ, Й ОБ ИТЕВФЕ ЕЗП ЗЕТНБОГЩ ТЩМЙ ПЛПРЩ. чЙДОП ВЩМП, ЛБЛ ПОЙ ПУФБОБЧМЙЧБАФУС, ЮФПВЩ РПФЕТЕФШ ТХЛЙ Й ЪБЛХТЙФШ, УМЩЫЕО ВЩМ УЕТДЙФЩК ЗПМПУ ХОФЕТБ ЙМЙ ПЖЙГЕТБ. чМЕЧП ФЕНОЕМБ ТПЭБ, ЙЪ-ЪБ ЛПФПТПК ОЕУМБУШ ПТХДЙКОБС РБМШВБ. ьФП ПФФХДБ ПВУФТЕМЙЧБМЙ РПМЕ, РП ЛПФПТПНХ С ФПМШЛП ЮФП РТПЕИБМ. с ДП УЙИ РПТ ОЕ РПОЙНБА, РПЮЕНХ ЗЕТНБОГЩ ОЕ ЧЩУФБЧЙМЙ ОЙЛБЛПЗП РЙЛЕФБ Ч УБНПН ЖПМШЧБТЛЕ. чРТПЮЕН, ОБ ЧПКОЕ ВЩЧБАФ Й ОЕ ФБЛЙЕ ЮХДЕУБ.
с ЧУЕ ЧЩЗМСДЩЧБМ ЙЪ-ЪБ ХЗМБ УБТБС, УОСЧ ЖХТБЦЛХ, ЮФПВЩ НЕОС РТЙОСМЙ РТПУФП ЪБ МАВПРЩФУФЧХАЭЕЗП «ЧПМШОПЗП», ЛПЗДБ РПЮХЧУФЧПЧБМ УЪБДЙ ЮШЕ-ФП МЕЗЛПЕ РТЙЛПУОПЧЕОЙЕ. с ВЩУФТП ПВЕТОХМУС. рЕТЕДП НОПК УФПСМБ ОЕЙЪЧЕУФОП ПФЛХДБ РПСЧЙЧЫБСУС РПМШЛБ У ЙЪНПЦДЕООЩН, УЛПТВОЩН МЙГПН. пОБ РТПФСЗЙЧБМБ НОЕ РТЙЗПТЫОА НЕМЛЙИ, УНПТЭЕООЩИ СВМПЛ: «чПЪШНЙ, РБО УПМДБФ, ФП ЕУФШ ДПВЦЕ, ГХЛЕТОП». нЕОС ЛБЦДХА НЙОХФХ НПЗМЙ ЪБНЕФЙФШ, ПВУФТЕМСФШ; РХМЙ МЕФЕМЙ ВЩ Й Ч ОЕЕ. рПОСФОП, ВЩМП ОЕЧПЪНПЦОП ПФЛБЪБФШУС ПФ ФБЛПЗП РПДБТЛБ.
нЩ ЧЩВТБМЙУШ ЙЪ ЖПМШЧБТЛБ. ыТБРОЕМШ ТЧБМБУШ ЮБЭЕ Й ЮБЭЕ Й ОБ УБНПК ДПТПЗЕ, ФБЛ ЮФП НЩ ТЕЫЙМЙ УЛБЛБФШ ПВТБФОП РППДЙОПЮЛЕ. с ОБДЕСМУС РПДПВТБФШ ТБОЕОПЗП ОЕНГБ, ОП ОБ НПЙИ ЗМБЪБИ ОБД ОЙН ОЙЪЛП, ОЙЪЛП ТБЪПТЧБМУС УОБТСД, Й ЧУЕ ВЩМП ЛПОЮЕОП.
оБ ДТХЗПК ДЕОШ ХЦЕ УНЕТЛБМПУШ Й ЧУЕ ТБЪВТЕМЙУШ РП УЕОПЧБМБН Й ЛМЕФХЫЛБН ВПМШЫПК ХУБДШВЩ, ЛПЗДБ ЧОЕЪБРОП ВЩМП ЧЕМЕОП УПВТБФШУС ОБЫЕНХ ЧЪЧПДХ. чЩЪЧБМЙ ПИПФОЙЛПЧ ЙДФЙ Ч ОПЮОХА РЕЫХА ТБЪЧЕДЛХ, ПЮЕОШ ПРБУОХА, ЛБЛ ОБУФБЙЧБМ ПЖЙГЕТ.
юЕМПЧЕЛ ДЕУСФШ РПТБУФПТПРОЕЕ ЧЩЫМЙ УТБЪХ; ПУФБМШОЩЕ, РПФПРФБЧЫЙУШ, ПВЯСЧЙМЙ, ЮФП ПОЙ ФПЦЕ ИПФСФ ЙДФЙ Й ФПМШЛП УФЩДЙМЙУШ ОБРТБЫЙЧБФШУС. фПЗДБ ТЕЫЙМЙ, ЮФП ЧЪЧПДОЩК ОБЪОБЮЙФ ПИПФОЙЛПЧ. й ФБЛЙН ПВТБЪПН ВЩМЙ ЧЩВТБОЩ ЧПУЕНШ ЮЕМПЧЕЛ, ПРСФШ-ФБЛЙ РПВПКЮЕЕ. ч ЮЙУМЕ ЙИ ПЛБЪБМУС Й С.
нЩ ОБ ЛПОСИ ДПЕИБМЙ ДП ЗХУБТУЛПЗП УФПТПЦЕЧПЗП ПИТБОЕОЙС. ъБ ДЕТЕЧШСНЙ УРЕЫЙМЙУШ, ПУФБЧЙМЙ ФТПЙИ ЛПОПЧПДБНЙ Й РПЫМЙ ТБУУРТПУЙФШ ЗХУБТ, ЛБЛ ПВУФПСФ ДЕМБ. хУБФЩК ЧБИНЙУФТ, ЪБРТСФБООЩК Ч ЧПТПОЛЕ ПФ ФСЦЕМПЗП УОБТСДБ, ТБУУЛБЪБМ, ЮФП ЙЪ ВМЙЦБКЫЕК ДЕТЕЧОЙ ОЕУЛПМШЛП ТБЪ ЧЩИПДЙМЙ ОЕРТЙСФЕМШУЛЙЕ ТБЪЧЕДЮЙЛЙ, ЛТБМЙУШ РПМЕН Л ОБЫЙН РПЪЙГЙСН Й ПО ХЦЕ ДЧБ ТБЪБ УФТЕМСМ. нЩ ТЕЫЙМЙ РТПВТБФШУС Ч ЬФХ ДЕТЕЧОА Й, ЕУМЙ ЧПЪНПЦОП, ЪБВТБФШ ЛБЛПЗП-ОЙВХДШ ТБЪЧЕДЮЙЛБ ЦЙЧШЕН.
уЧЕФЙМБ РПМОБС МХОБ, ОП, ОБ ОБЫЕ УЮБУФШЕ, ПОБ ФП Й ДЕМП УЛТЩЧБМБУШ ЪБ ФХЮБНЙ. чЩЦДБЧ ПДОП ЙЪ ФБЛЙИ ЪБФНЕОЙК, НЩ, УПЗОХЧЫЙУШ, ЗХУШЛПН РПВЕЦБМЙ Л ДЕТЕЧОЕ, ОП ОЕ РП ДПТПЗЕ, Б Ч ЛБОБЧЕ, ЙДХЭЕК ЧДПМШ ОЕЕ. х ПЛПМЙГЩ ПУФБОПЧЙМЙУШ. пФТСД ДПМЦЕО ВЩМ ПУФБЧБФШУС ЪДЕУШ Й ЦДБФШ, ДЧХН ПИПФОЙЛБН РТЕДМБЗБМПУШ РТПКФЙ РП ДЕТЕЧОЕ Й РПУНПФТЕФШ, ЮФП ДЕМБЕФУС ЪБ ОЕА. рПЫМЙ С Й ПДЙО ЪБРБУОПК ХОФЕТ-ПЖЙГЕТ, РТЕЦДЕ ЧЕЦМЙЧЩК УМХЦЙФЕМШ Ч ЛБЛПН-ФП ЛБЪЕООПН ХЮТЕЦДЕОЙЙ, ФЕРЕТШ ПДЙО ЙЪ ИТБВТЕКЫЙИ УПМДБФ УЮЙФБАЭЕЗПУС ВПЕЧЩН ЬУЛБДТПОБ. пО РП ПДОПК УФПТПОЕ ХМЙГЩ, С РП ДТХЗПК. рП УЧЙУФЛХ НЩ ДПМЦОЩ ВЩМЙ ЧПЪЧТБЭБФШУС ОБЪБД.
чПФ С УПЧУЕН ПДЙО РПУТЕДЙ НПМЮБМЙЧПК, УМПЧОП РТЙФБЙЧЫЕКУС ДЕТЕЧОЙ, ЙЪ-ЪБ ХЗМБ ПДОПЗП ДПНБ РЕТЕВЕЗБА Л ХЗМХ УМЕДХАЭЕЗП. ыБЗБИ Ч РСФОБДГБФЙ ЧВПЛ НЕМШЛБЕФ ЛТБДХЭБСУС ЖЙЗХТБ. ьФП НПК ФПЧБТЙЭ. йЪ УБНПМАВЙС С УФБТБАУШ ЙДФЙ ЧРЕТЕДЙ ЕЗП, ОП УМЙЫЛПН ФПТПРЙФШУС ЧУЕ-ФБЛЙ УФТБЫОП. нОЕ ЧУРПНЙОБЕФУС ЙЗТБ Ч РБМПЮЛХ-ЧПТПЧПЮЛХ, Ч ЛПФПТХА С ЧУЕЗДБ ЙЗТБА МЕФПН Ч ДЕТЕЧОЕ. фБН ФП ЦЕ ЪБФБЕООПЕ ДЩИБОЙЕ, ФП ЦЕ ЧЕУЕМПЕ УПЪОБОЙЕ ПРБУОПУФЙ, ФП ЦЕ ЙОУФЙОЛФЙЧОПЕ ХНЕОЙЕ РПДЛТБДЩЧБФШУС Й РТСФБФШУС. й РПЮФЙ ЪБВЩЧБЕЫШ, ЮФП ЪДЕУШ ЧНЕУФП УНЕАЭЙИУС ЗМБЪ ИПТПЫЕОШЛПК ДЕЧХЫЛЙ, ФПЧБТЙЭБ РП ЙЗТЕ, НПЦЕЫШ ЧУФТЕФЙФШ МЙЫШ ПУФТЩК Й ИПМПДОЩК ОБРТБЧМЕООЩК ОБ ФЕВС ЫФЩЛ. чПФ Й ЛПОЕГ ДЕТЕЧОЙ. уФБОПЧЙФУС ЮХФШ УЧЕФМЕЕ, ЬФП МХОБ РТПВЙЧБЕФУС УЛЧПЪШ ОЕРМПФОЩК ЛТБК ФХЮЙ; С ЧЙЦХ РЕТЕД УПВПК ОЕЧЩУПЛЙЕ, ФЕНОЩЕ ВХЗПТЛЙ ПЛПРПЧ Й УТБЪХ ЪБРПНЙОБА, УМПЧОП ЖПФПЗТБЖЙТХА Ч РБНСФЙ, ЙИ ДМЙОХ Й ОБРТБЧМЕОЙЕ. чЕДШ ЪБ ЬФЙН С УАДБ Й РТЙЫЕМ. ч ФХ ЦЕ НЙОХФХ РЕТЕДП НОПК ЧЩТЙУПЧЩЧБЕФУС ЮЕМПЧЕЮЕУЛБС ЖЙЗХТБ. пОБ ЧЗМСДЩЧБЕФУС Ч НЕОС Й ФЙИПОШЛП УЧЙУФЙФ ЛБЛЙН-ФП ПУПВЕООЩН, ПЮЕЧЙДОП ХУМПЧОЩН, УЧЙУФПН. ьФП ЧТБЗ, УФПМЛОПЧЕОЙЕ ОЕЙЪВЕЦОП.
чП НОЕ МЙЫШ ПДОБ НЩУМШ, ЦЙЧБС Й НПЗХЮБС, ЛБЛ УФТБУФШ, ЛБЛ ВЕЫЕОУФЧП, ЛБЛ ЬЛУФБЪ: С ЕЗП ЙМЙ ПО НЕОС! пО ОЕТЕЫЙФЕМШОП РПДОЙНБЕФ ЧЙОФПЧЛХ, С ЪОБА, ЮФП НОЕ УФТЕМСФШ ОЕМШЪС, ЧТБЗПЧ НОПЗП РПВМЙЪПУФЙ, Й ВТПУБАУШ ЧРЕТЕД У ПРХЭЕООЩН ЫФЩЛПН. нЗОПЧЕОЙЕ, Й РЕТЕДП НОПК ОЙЛПЗП. нПЦЕФ ВЩФШ, ЧТБЗ РТЙУЕМ ОБ ЪЕНМА, НПЦЕФ ВЩФШ, ПФУЛПЮЙМ. с ПУФБОБЧМЙЧБАУШ Й ОБЮЙОБА ЧУНБФТЙЧБФШУС. юФП-ФП ЮЕТОЕЕФ. с РТЙВМЙЦБАУШ Й ФТПЗБА ЫФЩЛПН, ОЕФ, ЬФП ВТЕЧОП. юФП-ФП ЮЕТОЕЕФ ПРСФШ. чДТХЗ УВПЛХ ПФ НЕОС ТБЪДБЕФУС ОЕПВЩЮБКОП ЗТПНЛЙК ЧЩУФТЕМ, Й РХМС ЧПЕФ ПВЙДОП ВМЙЪЛП РЕТЕД НПЙН МЙГПН. с ПВПТБЮЙЧБАУШ, Ч НПЕН ТБУРПТСЦЕОЙЙ ОЕУЛПМШЛП УЕЛХОД, РПЛБ ЧТБЗ ВХДЕФ НЕОСФШ РБФТПО Ч НБЗБЪЙОЕ ЧЙОФПЧЛЙ. оП ХЦЕ ЙЪ ПЛПРПЧ УМЩЫЙФУС РТПФЙЧОПЕ ИБТЛБОШЕ ЧЩУФТЕМПЧ ФТБ, ФТБ, ФТБ, Й РХМЙ УЧЙУФСФ, ОПАФ, ЧЙЪЦБФ.
с РПВЕЦБМ Л УЧПЕНХ ПФТСДХ. пУПВЕООПЗП УФТБИБ С ОЕ ЙУРЩФЩЧБМ, С ЪОБМ, ЮФП ОПЮОБС УФТЕМШВБ ОЕДЕКУФЧЙФЕМШОБ, Й НОЕ ФПМШЛП ИПФЕМПУШ РТПДЕМБФШ ЧУЕ ЛБЛ НПЦОП РТБЧЙМШОЕЕ Й МХЮЫЕ. рПЬФПНХ, ЛПЗДБ МХОБ ПУЧЕФЙМБ РПМЕ, С ВТПУЙМУС ОЙЮЛПН Й ФБЛ ПФРПМЪ Ч ФЕОШ ДПНПЧ, ФБН ХЦЕ ЙДФЙ ВЩМП РПЮФЙ ВЕЪПРБУОП. нПК ФПЧБТЙЭ, ХОФЕТ-ПЖЙГЕТ, ЧПЪЧТБФЙМУС ПДОПЧТЕНЕООП УП НОПК. пО ЕЭЕ ОЕ ДПЫЕМ ДП ЛТБС ДЕТЕЧОЙ, ЛПЗДБ ОБЮБМБУШ РБМШВБ. нЩ ЧЕТОХМЙУШ Л ЛПОСН. ч ПДЙОПЛПК ИБМХРЕ ПВНЕОСМЙУШ ЧРЕЮБФМЕОЙСНЙ, РПХЦЙОБМЙ ИМЕВПН У УБМПН, ПЖЙГЕТ ОБРЙУБМ Й ПФРТБЧЙМ ДПОЕУЕОЙЕ, Й НЩ ЧЩЫМЙ ПРСФШ РПУНПФТЕФШ, ОЕМШЪС МЙ ЮФП-ОЙВХДШ ХУФТПЙФШ. оП, ХЧЩ! ОПЮОПК ЧЕФЕТ Ч ЛМПЮШС ЙЪПДТБМ ФХЮЙ, ЛТХЗМБС, ЛТБУОПЧБФБС МХОБ ПРХУФЙМБУШ ОБД ОЕРТЙСФЕМШУЛЙНЙ РПЪЙГЙСНЙ Й УМЕРЙМБ ОБН ЗМБЪБ. оБУ ВЩМП ЧЙДОП ЛБЛ ОБ МБДПОЙ, НЩ ОЕ ЧЙДЕМЙ ОЙЮЕЗП. нЩ ЗПФПЧЩ ВЩМЙ РМБЛБФШ У ДПУБДЩ Й, ОБЪМП УХДШВЕ, ЧУЕ-ФБЛЙ РПРПМЪМЙ Ч УФПТПОХ ОЕРТЙСФЕМС. мХОБ НПЗМБ ЦЕ ПРСФШ УЛТЩФШУС ЙМЙ НПЗ ЦЕ ОБН ЧУФТЕФЙФШУС ЛБЛПК-ОЙВХДШ ЫБМШОПК ТБЪЧЕДЮЙЛ! пДОБЛП ОЙЮЕЗП ЬФПЗП ОЕ УМХЮЙМПУШ, ОБУ ФПМШЛП ПВУФТЕМСМЙ, Й НЩ ХРПМЪМЙ ПВТБФОП, РТПЛМЙОБС МХООЩЕ ЬЖЖЕЛФЩ Й ПУФПТПЦОПУФШ ОЕНГЕЧ. чУЕ ЦЕ ДПВЩФЩЕ ОБНЙ УЧЕДЕОЙС РТЙЗПДЙМЙУШ, ОБУ ВМБЗПДБТЙМЙ, Й С РПМХЮЙМ ЪБ ЬФХ ОПЮШ зЕПТЗЙЕЧУЛЙК ЛТЕУФ.
уМЕДХАЭБС ОЕДЕМС ЧЩДБМБУШ УТБЧОЙФЕМШОП ФЙИБС. нЩ УЕДМБМЙ ЕЭЕ Ч ФЕНОПФЕ, Й РП ДПТПЗЕ Л РПЪЙГЙЙ С МАВПЧБМУС ЛБЦДЩК ДЕОШ ПДОПК Й ФПК ЦЕ НХДТПК Й СТЛПК ЗЙВЕМША ХФТЕООЕК ЪЧЕЪДЩ ОБ ЖПОЕ БЛЧБТЕМШОП-ОЕЦОПЗП ТБУУЧЕФБ. дОЕН НЩ МЕЦБМЙ ОБ ПРХЫЛЕ ВПМШЫПЗП УПУОПЧПЗП МЕУБ Й УМХЫБМЙ ПФДБМЕООХА РХЫЕЮОХА УФТЕМШВХ. уМЕЗЛБ РТЙЗТЕЧБМП ВМЕДОПЕ УПМОГЕ, ЪЕНМС ВЩМБ ЗХУФП ХУФМБОБ НСЗЛЙНЙ УФТБООП РБИОХЭЙНЙ ЙЗМБНЙ. лБЛ ЧУЕЗДБ ЪЙНПА, С ФПНЙМУС РП ЦЙЪОЙ МЕФОЕК РТЙТПДЩ, Й ФБЛ УМБДЛП ВЩМП, УПЧУЕН ВМЙЪЛП ЧЗМСДЩЧБСУШ Ч ЛПТХ ДЕТЕЧШЕЧ, ЪБНЕЮБФШ Ч ЕЕ ЗТХВЩИ УЛМБДЛБИ ЛБЛЙИ-ФП РТПЧПТОЩИ ЮЕТЧСЮЛПЧ Й НЙЛТПУЛПРЙЮЕУЛЙИ НХЫЕЛ. пОЙ ЛХДБ-ФП УРЕЫЙМЙ, ЮФП-ФП ДЕМБМЙ, ОЕУНПФТС ОБ ФП ЮФП ОБ ДЧПТЕ УФПСМ ДЕЛБВТШ. цЙЪОШ ФЕРМЙМБУШ Ч МЕУХ, ЛБЛ ЧОХФТЙ ЮЕТОПК, РПЮФЙ ИПМПДОПК ЗПМПЧЕЫЛЙ ФЕРМЙФУС ТПВЛЙК ФМЕАЭЙК ПЗПОЕЛ. зМСДС ОБ ОЕЕ, С ЧУЕН УХЭЕУФЧПН ТБДПУФОП ЮХЧУФЧПЧБМ, ЮФП УАДБ ПРСФШ ЧЕТОХФУС ВПМШЫЙЕ ДЙЛПЧЙООЩЕ РФЙГЩ Й РФЙГЩ НБМЕОШЛЙЕ, ОП У ИТХУФБМШОЩНЙ, УЕТЕВТСОЩНЙ Й НБМЙОПЧЩНЙ ЗПМПУБНЙ, ТБУРХУФСФУС ДХЫОП РБИОХЭЙЕ ГЧЕФЩ, НЙТ ЧДПЧПМШ ОБМШЕФУС ВХТОПК ЛТБУПФПК ДМС ФПТЦЕУФЧЕООПЗП РТБЪДОПЧБОЙС ЛПМДПЧУЛПК Й УЧСЭЕООПК йЧБОПЧПК ОПЮЙ.
йОПЗДБ НЩ ПУФБЧБМЙУШ Ч МЕУХ ОБ ЧУА ОПЮШ. фПЗДБ, МЕЦБ ОБ УРЙОЕ, С ЮБУБНЙ УНПФТЕМ ОБ ВЕУЮЙУМЕООЩЕ СУОЩЕ ПФ НПТПЪБ ЪЧЕЪДЩ Й ЪБВБЧМСМУС, УПЕДЙОСС ЙИ Ч ЧППВТБЦЕОЙЙ ЪПМПФЩНЙ ОЙФСНЙ. уРЕТЧБ ЬФП ВЩМ ТСД ЗЕПНЕФТЙЮЕУЛЙИ ЮЕТФЕЦЕК, РПИПЦЙК ОБ ТБЪЧЕТОХФЩК УЧЙФПЛ лБВБМЩ. рПФПН С ОБЮЙОБМ ТБЪМЙЮБФШ, ЛБЛ ОБ ЪБФЛБООПН ЪПМПФПН ЛПЧТЕ, ТБЪМЙЮОЩЕ ЬНВМЕНЩ, НЕЮЙ, ЛТЕУФЩ, ЮБЫЙ Ч ОЕ РПОСФОЩИ ДМС НЕОС, ОП РПМОЩИ ОЕЮЕМПЧЕЮЕУЛПЗП УНЩУМБ УПЮЕФБОЙСИ. оБЛПОЕГ СЧУФЧЕООП ЧЩТЙУПЧЩЧБМЙУШ ОЕВЕУОЩЕ ЪЧЕТЙ. с ЧЙДЕМ, ЛБЛ вПМШЫБС нЕДЧЕДЙГБ, ПРХУФЙЧ НПТДХ, РТЙОАИЙЧБЕФУС Л ЮШЕНХ-ФП УМЕДХ, ЛБЛ уЛПТРЙПО ЫЕЧЕМЙФ ИЧПУФПН, ЙЭБ, ЛПЗП ЕНХ ХЦБМЙФШ. оБ НЗОПЧЕОШЕ НЕОС ПИЧБФЩЧБМ ОЕЧЩТБЪЙНЩК УФТБИ, ЮФП ПОЙ РПУНПФТСФ ЧОЙЪ Й ЪБНЕФСФ ФБН ОБЫХ ЪЕНМА. чЕДШ ФПЗДБ ПОБ УТБЪХ ПВТБФЙФУС Ч ВЕЪПВТБЪОЩК ЛХУПЛ НБФПЧП-ВЕМПЗП МШДБ Й РПНЮЙФУС ЧОЕ ЧУСЛЙИ ПТВЙФ, ЪБТБЦБС УЧПЙН ХЦБУПН ДТХЗЙЕ НЙТЩ. фХФ С ПВЩЛОПЧЕООП ЫЕРПФПН РТПУЙМ Х УПУЕДБ НБИПТЛЙ, УЧЕТФЩЧБМ ГЙЗБТЛХ Й У ОБУМБЦДЕОЙЕН ЧЩЛХТЙЧБМ ЕЕ Ч ТХЛБИ ЛХТЙФШ ЙОБЮЕ ЪОБЮЙМП ЧЩДБФШ ОЕРТЙСФЕМА ОБЫЕ ТБУРПМПЦЕОЙЕ.
ч ЛПОГЕ ОЕДЕМЙ ОБУ ЦДБМБ ТБДПУФШ. оБУ ПФЧЕМЙ Ч ТЕЪЕТЧ БТНЙЙ, Й РПМЛПЧПК УЧСЭЕООЙЛ УПЧЕТЫЙМ ВПЗПУМХЦЕОЙЕ. йДФЙ ОБ ОЕЗП ОЕ РТЙОХЦДБМЙ, ОП ЧП ЧУЕН РПМЛХ ОЕ ВЩМП ОЙ ПДОПЗП ЮЕМПЧЕЛБ, ЛПФПТЩК ВЩ ОЕ РПЫЕМ. оБ ПФЛТЩФПН РПМЕ ФЩУСЮБ ЮЕМПЧЕЛ ЧЩУФТПЙМЙУШ УФТПКОЩН ЮЕФЩТЕИХЗПМШОЙЛПН, Ч ГЕОФТЕ ЕЗП УЧСЭЕООЙЛ Ч ЪПМПФПК ТЙЪЕ ЗПЧПТЙМ ЧЕЮОЩЕ Й УМБДЛЙЕ УМПЧБ, УМХЦБ НПМЕВЕО. вЩМП РПИПЦЕ ОБ РПМЕЧЩЕ НПМЕВОЩ П ДПЦДЕ Ч ЗМХИЙИ, ДБМЕЛЙИ ТХУУЛЙИ ДЕТЕЧОСИ. фП ЦЕ ОЕПВЯСФОПЕ ОЕВП ЧНЕУФП ЛХРПМБ, ФЕ ЦЕ РТПУФЩЕ Й ТПДОЩЕ, УПУТЕДПФПЮЕООЩЕ МЙГБ. нЩ ИПТПЫП РПНПМЙМЙУШ Ч ФПФ ДЕОШ.
вЩМП ТЕЫЕОП ЧЩТПЧОСФШ ЖТПОФ, ПФПКДС ЧЕТУФ ОБ ФТЙДГБФШ, Й ЛБЧБМЕТЙС ДПМЦОБ ВЩМБ РТЙЛТЩЧБФШ ЬФПФ ПФИПД. рПЪДОП ЧЕЮЕТПН НЩ РТЙВМЙЪЙМЙУШ Л РПЪЙГЙЙ, Й ФПФЮБУ ЦЕ УП УФПТПОЩ ОЕРТЙСФЕМС ОБ ОБУ ПРХУФЙМУС Й НЕДМЕООП ЪБУФЩМ УЧЕФ РТПЦЕЛФПТБ, ЛБЛ ЧЪЗМСД ЧЩУПЛПНЕТОПЗП ЮЕМПЧЕЛБ. нЩ ПФЯЕИБМЙ, ПО, УЛПМШЪС РП ЪЕНМЕ Й РП ДЕТЕЧШСН, РПУМЕДПЧБМ ЪБ ОБНЙ. фПЗДБ НЩ ЗБМПРПН ПРЙУБМЙ РЕФМЙ Й УФБМЙ ЪБ ДЕТЕЧОА, Б ПО ЕЭЕ ДПМЗП ФЩЛБМУС ФХДБ Й УАДБ, ВЕЪОБДЕЦОП ПФЩУЛЙЧБС ОБУ.
нПК ЧЪЧПД ВЩМ ПФРТБЧМЕО Л ЫФБВХ ЛБЪБЮШЕК ДЙЧЙЪЙЙ, ЮФПВЩ УМХЦЙФШ УЧСЪША НЕЦДХ ОЙН Й ОБЫЕК ДЙЧЙЪЙЕК. мЕЧ фПМУФПК Ч «чПКОЕ Й НЙТЕ» РПУНЕЙЧБЕФУС ОБД ЫФБВОЩНЙ Й ПФДБЕФ РТЕДРПЮФЕОЙЕ УФТПЕЧЩН ПЖЙГЕТБН. оП С ОЕ ЧЙДЕМ ОЙ ПДОПЗП ЫФБВБ, ЛПФПТЩК ХИПДЙМ ВЩ ТБОШЫЕ, ЮЕН УОБТСДЩ ОБЮЙОБМЙ ТЧБФШУС ОБД ЕЗП РПНЕЭЕОЙЕН. лБЪБЮЙК ЫФБВ ТБУРПМПЦЙМУС Ч ВПМШЫПН НЕУФЕЮЛЕ т. цЙФЕМЙ ВЕЦБМЙ ЕЭЕ ОБЛБОХОЕ, ПВПЪ ХЫЕМ, РЕИПФБ ФПЦЕ, ОП НЩ УЙДЕМЙ ВПМШЫЕ УХФПЛ, УМХЫБС НЕДМЕООП ОБДЧЙЗБАЭХАУС УФТЕМШВХ, ЬФП ЛБЪБЛЙ ЪБДЕТЦЙЧБМЙ ОЕРТЙСФЕМШУЛЙЕ ГЕРЙ. тПУМЩК Й ЫЙТПЛПРМЕЮЙК РПМЛПЧОЙЛ ЛБЦДХА НЙОХФХ РПДВЕЗБМ Л ФЕМЕЖПОХ Й ЧЕУЕМП ЛТЙЮБМ Ч ФТХВЛХ: «фБЛ ПФМЙЮОП ЪБДЕТЦЙФЕУШ ЕЭЕ ОЕНОПЗП ЧУЕ ЙДЕФ ИПТПЫП » й ПФ ЬФЙИ УМПЧ РП ЧУЕН ЖПМШЧБТЛБН, ЛБОБЧБН Й РЕТЕМЕУЛБН, ЪБОСФЩН ЛБЪБЛБНЙ, ТБЪМЙЧБМЙУШ ХЧЕТЕООПУФШ Й УРПЛПКУФЧЙЕ, УФПМШ ОЕПВИПДЙНЩЕ Ч ВПА. нПМПДПК ОБЮБМШОЙЛ ДЙЧЙЪЙЙ, ОПУЙФЕМШ ПДОПК ЙЪ УБНЩИ ЗТПНЛЙИ ЖБНЙМЙК тПУУЙЙ, РП ЧТЕНЕОБН ЧЩИПДЙМ ОБ ЛТЩМШГП РПУМХЫБФШ РХМЕНЕФЩ Й ХМЩВБМУС ФПНХ, ЮФП ЧУЕ ЙДЕФ ФБЛ, ЛБЛ ОХЦОП.
нЩ, ХМБОЩ, ВЕУЕДПЧБМЙ УП УФЕРЕООЩНЙ ВПТПДБФЩНЙ ЛБЪБЛБНЙ, РТПСЧМСС РТЙ ЬФПН ФХ ЙЪЩУЛБООХА МАВЕЪОПУФШ, У ЛПФПТПК ПФОПУСФУС ДТХЗ Л ДТХЗХ ЛБЧБМЕТЙУФЩ ТБЪОЩИ ЮБУФЕК.
л ПВЕДХ ДП ОБУ ДПЫЕМ УМХИ, ЮФП РСФШ ЮЕМПЧЕЛ ОБЫЕЗП ЬУЛБДТПОБ РПРБМЙ Ч РМЕО. л ЧЕЮЕТХ С ХЦЕ ЧЙДЕМ ПДОПЗП ЙЪ ЬФЙИ РМЕООЩИ, ПУФБМШОЩЕ ЧЩУЩРБМЙУШ ОБ УЕОПЧБМЕ. чПФ ЮФП У ОЙНЙ УМХЮЙМПУШ. йИ ВЩМП ЫЕУФЕТП Ч УФПТПЦЕЧПН ПИТБОЕОЙЙ. дЧПЕ УФПСМЙ ОБ ЮБУБИ, ЮЕФЧЕТП УЙДЕМЙ Ч ИБМХРЕ. оПЮШ ВЩМБ ФЕНОБС Й ЧЕФТЕОБС, ЧТБЗЙ РПДЛТБМЙУШ Л ЮБУПЧПНХ Й ПРТПЛЙОХМЙ ЕЗП. рПДЮБУПЛ ДБМ ЧЩУФТЕМ Й ВТПУЙМУС Л ЛПОСН, ЕЗП ФПЦЕ ПРТПЛЙОХМЙ. уТБЪХ ЮЕМПЧЕЛ РСФШДЕУСФ ЧПТЧБМЙУШ ЧП ДЧПТ Й РТЙОСМЙУШ РБМЙФШ Ч ПЛОБ ДПНБ, ЗДЕ ОБИПДЙМУС ОБЫ РЙЛЕФ. пДЙО ЙЪ ОБЫЙИ ЧЩУЛПЮЙМ Й, ТБВПФБС ЫФЩЛПН, РТПТЧБМУС Л МЕУХ, ПУФБМШОЩЕ РПУМЕДПЧБМЙ ЪБ ОЙН, ОП РЕТЕДОЙК ХРБМ, ЪБРОХЧЫЙУШ ОБ РПТПЗЕ, ОБ ОЕЗП РПРБДБМЙ Й ЕЗП ФПЧБТЙЭЙ. оЕРТЙСФЕМЙ, ЬФП ВЩМЙ БЧУФТЙКГЩ, ПВЕЪПТХЦЙМЙ ЙИ Й РПД ЛПОЧПЕН ФПЦЕ РСФЙ ЮЕМПЧЕЛ ПФРТБЧЙМЙ Ч ЫФБВ. дЕУСФШ ЮЕМПЧЕЛ ПЛБЪБМЙУШ ПДОЙ, ВЕЪ ЛБТФЩ, Ч РПМОПК ФЕНОПФЕ, УТЕДЙ РХФБОЙГЩ ДПТПЗ Й ФТПРЙОПЛ.
рП ДПТПЗЕ БЧУФТЙКУЛЙК ХОФЕТ-ПЖЙГЕТ ОБ МПНБОПН ТХУУЛПН СЪЩЛЕ ЧУЕ ТБУУРТБЫЙЧБМ ОБЫЙИ, ЗДЕ «ЛПЪЙ», ФП ЕУФШ ЛБЪБЛЙ. оБЫЙ У ДПУБДПК ПФНБМЮЙЧБМЙУШ Й ОБЛПОЕГ ПВЯСЧЙМЙ, ЮФП «ЛПЪЙ» ЙНЕООП ФБН, ЛХДБ ЙИ ЧЕДХФ, Ч УФПТПОЕ ОЕРТЙСФЕМШУЛЙИ РПЪЙГЙК. ьФП РТПЙЪЧЕМП ЮТЕЪЧЩЮБКОЩК ЬЖЖЕЛФ. бЧУФТЙКГЩ ПУФБОПЧЙМЙУШ Й РТЙОСМЙУШ П ЮЕН-ФП ПЦЙЧМЕООП УРПТЙФШ. сУОП ВЩМП, ЮФП ПОЙ ОЕ ЪОБМЙ ДПТПЗЙ. фПЗДБ ОБЫ ХОФЕТ-ПЖЙГЕТ РПФСОХМ ЪБ ТХЛБЧ БЧУФТЙКУЛПЗП Й ПВПДТЙФЕМШОП УЛБЪБМ: «оЙЮЕЗП, РПКДЕН, С ЪОБА, ЛХДБ ЙДФЙ». рПЫМЙ, НЕДМЕООП ЪБЗЙВБС Ч УФПТПОХ ТХУУЛЙИ РПЪЙГЙК.
ч ВЕМЕУЩИ УХНЕТЛБИ ХФТБ УТЕДЙ ДЕТЕЧШЕЧ НЕМШЛОХМЙ УЕТЩЕ ЛПОЙ ЗХУБТУЛЙК ТБЪЯЕЪД. «чПФ Й ЛПЪЙ!» ЧПУЛМЙЛОХМ ОБЫ ХОФЕТ, ЧЩИЧБФЩЧБС Х БЧУФТЙКГБ ЧЙОФПЧЛХ. еЗП ФПЧБТЙЭЙ ПВЕЪПТХЦЙМЙ ПУФБМШОЩИ. зХУБТЩ ОЕНБМП УНЕСМЙУШ, ЛПЗДБ ЧППТХЦЕООЩЕ БЧУФТЙКУЛЙНЙ ЧЙОФПЧЛБНЙ ХМБОЩ РПДПЫМЙ Л ОЙН, ЛПОЧПЙТХС УЧПЙИ ФПМШЛП ЮФП ЪБИЧБЮЕООЩИ РМЕООЩИ. пРСФШ РПЫМЙ Ч ЫФБВ, ОП ФЕРЕТШ ХЦЕ ТХУУЛЙК. рП ДПТПЗЕ ЧУФТЕФЙМУС ЛБЪБЛ. «оХ-ЛБ, ДСДС, РПЛБЦЙ УЕВС», РПРТПУЙМЙ ОБЫЙ. фПФ ОБДЧЙОХМ ОБ ЗМБЪБ РБРБИХ, ЧУЛМПЛПЮЙМ РСФЕТОЕК ВПТПДХ, ЧЪЧЙЪЗОХМ Й РХУФЙМ ЛПОС ЧУЛБЮШ. дПМЗП РПУМЕ ЬФПЗП РТЙЫМПУШ ПВПДТСФШ Й ХУРПЛБЙЧБФШ БЧУФТЙКГЕЧ.
оБ УМЕДХАЭЙК ДЕОШ ЫФБВ ЛБЪБЮШЕК ДЙЧЙЪЙЙ Й НЩ У ОЙН ПФПЫМЙ ЧЕТУФЩ ЪБ ЮЕФЩТЕ, ФБЛ ЮФП ОБН ВЩМЙ ЧЙДОЩ ФПМШЛП ЖБВТЙЮОЩЕ ФТХВЩ НЕУФЕЮЛБ т. нЕОС РПУМБМЙ У ДПОЕУЕОЙЕН Ч ЫФБВ ОБЫЕК ДЙЧЙЪЙЙ. дПТПЗБ МЕЦБМБ ЮЕТЕЪ т., ОП Л ОЕК ХЦЕ РПДИПДЙМЙ ЗЕТНБОГЩ. с ЧУЕ-ФБЛЙ УХОХМУС, ЧДТХЗ ХДБУФУС РТПУЛПЮЙФШ. еДХЭЙЕ НОЕ ОБЧУФТЕЮХ ПЖЙГЕТЩ РПУМЕДОЙИ ЛБЪБЮШЙИ ПФТСДПЧ ПУФБОБЧМЙЧБМЙ НЕОС ЧПРТПУПН ЧПМШОППРТЕДЕМСАЭЙКУС, ЛХДБ? Й, ХЪОБЧ, У УПНОЕОЙЕН РПЛБЮЙЧБМЙ ЗПМПЧПК. ъБ УФЕОПА ЛТБКОЕЗП ДПНБ УФПСМ ДЕУСФПЛ УРЕЫЕООЩИ ЛБЪБЛПЧ У ЧЙОФПЧЛБНЙ ОБЗПФПЧЕ. «оЕ РТПЕДЕФЕ, УЛБЪБМЙ ПОЙ, ЧПО ХЦЕ ЗДЕ РБМСФ». фПМШЛП С ЧЩДЧЙОХМУС, ЛБЛ ЪБЭЕМЛБМЙ ЧЩУФТЕМЩ, ЪБРТЩЗБМЙ РХМЙ. рП ЗМБЧОПК ХМЙГЕ ДЧЙЗБМЙУШ ОБЧУФТЕЮХ НОЕ ФПМРЩ ЗЕТНБОГЕЧ, Ч РЕТЕХМЛБИ УМЩЫБМУС ЫХН ДТХЗЙИ. с РПЧПТПФЙМ, ЪБ НОПК, УДЕМБЧ ОЕУЛПМШЛП ЪБМРПЧ, РПУМЕДПЧБМЙ Й ЛБЪБЛЙ.
оБ ДПТПЗЕ БТФЙММЕТЙКУЛЙК РПМЛПЧОЙЛ, ХЦЕ ПУФБОБЧМЙЧБЧЫЙК НЕОС, УРТПУЙМ: «оХ ЮФП, ОЕ РТПЕИБМЙ?» «оЙЛБЛ ОЕФ, ФБН ХЦЕ ОЕРТЙСФЕМШ». «чЩ ЕЗП УБНЙ ЧЙДЕМЙ?» «фБЛ ФПЮОП, УБН». пО РПЧЕТОХМУС Л УЧПЙН ПТДЙОБТГБН: «рБМШВБ ЙЪ ЧУЕИ ПТХДЙК РП НЕУФЕЮЛХ». с РПЕИБМ ДБМШЫЕ.
пДОБЛП НОЕ ЧУЕ-ФБЛЙ ОБДП ВЩМП РТПВТБФШУС Ч ЫФБВ. тБЪЗМСДЩЧБС УФБТХА ЛБТФХ ЬФПЗП ХЕЪДБ, УМХЮБКОП ПЛБЪБЧЫХАУС Х НЕОС, УПЧЕФХСУШ У ФПЧБТЙЭЕН У ДПОЕУЕОЙЕН ЧУЕЗДБ РПУЩМБАФ ДЧПЙИ Й ТБУУРТБЫЙЧБС НЕУФОЩИ ЦЙФЕМЕК, С ЛТХЦОЩН РХФЕН ЮЕТЕЪ МЕУБ Й ФПРЙ РТЙВМЙЦБМУС Л ОБЪОБЮЕООПК НОЕ ДЕТЕЧОЕ. дЧЙЗБФШУС РТЙИПДЙМПУШ РП ЖТПОФХ ОБУФХРБАЭЕЗП РТПФЙЧОЙЛБ, ФБЛ ЮФП ОЕ ВЩМП ОЙЮЕЗП ХДЙЧЙФЕМШОПЗП Ч ФПН, ЮФП РТЙ ЧЩЕЪДЕ ЙЪ ЛБЛПК-ФП ДЕТЕЧХЫЛЙ, ЗДЕ НЩ ФПМШЛП ЮФП, ОЕ УМЕЪБС У УЕДЕМ, ОБРЙМЙУШ НПМПЛБ, ОБН РПД РТСНЩН ХЗМПН РЕТЕТЕЪБМ РХФШ ОЕРТЙСФЕМШУЛЙК ТБЪЯЕЪД. пО, ПЮЕЧЙДОП, РТЙОСМ ОБУ ЪБ ДПЪПТОЩИ, РПФПНХ ЮФП ЧНЕУФП ФПЗП, ЮФПВЩ БФБЛПЧБФШ ОБУ Ч ЛПООПН УФТПА, ОБЮБМ ВЩУФТП УРЕЫЙЧБФШУС ДМС УФТЕМШВЩ. йИ ВЩМП ЧПУЕНШ ЮЕМПЧЕЛ, Й НЩ, УЧЕТОХЧ ЪБ ДПНБ, УФБМЙ ХИПДЙФШ. лПЗДБ УФТЕМШВБ УФЙИМБ, С ПВЕТОХМУС Й ХЧЙДЕМ ЪБ УПВПК ОБ ЧЕТЫЙОЕ ИПМНБ УЛБЮХЭЙИ ЧУБДОЙЛПЧ ОБУ РТЕУМЕДПЧБМЙ; ПОЙ РПОСМЙ, ЮФП ОБУ ФПМШЛП ДЧПЕ.
ч ЬФП ЧТЕНС УВПЛХ ПРСФШ РПУМЩЫБМЙУШ ЧЩУФТЕМЩ, Й РТСНП ОБ ОБУ ЛБТШЕТПН ЧЩМЕФЕМЙ ФТЙ ЛБЪБЛБ ДЧПЕ НПМПДЩИ, УЛХМБУФЩИ РБТОЕК Й ПДЙО ВПТПДБЮ. нЩ УФПМЛОХМЙУШ Й РТЙДЕТЦБМЙ ЛПОЕК. «юФП ФБН Х ЧБУ?» УРТПУЙМ С ВПТПДБЮБ. «рЕЫЙЕ ТБЪЧЕДЮЙЛЙ, У РПМУПФОЙ. б Х ЧБУ?» «чПУЕНШ ЛПООЩИ». пО РПУНПФТЕМ ОБ НЕОС, С ОБ ОЕЗП, Й НЩ РПОСМЙ ДТХЗ ДТХЗБ. оЕУЛПМШЛП УЕЛХОД РПНПМЮБМЙ. «оХ, РПЕДЕН, ЮФП МЙ!» ЧДТХЗ УМПЧОП ОЕИПФС УЛБЪБМ ПО, Б Х УБНПЗП ФБЛ Й ЪБЦЗМЙУШ ЗМБЪБ. уЛХМБУФЩЕ РБТОЙ, ЗМСДЕЧЫЙЕ ОБ ОЕЗП У ФТЕЧПЗПК, ДПЧПМШОП ФТСИОХМЙ ЗПМПЧПК Й УТБЪХ УФБМЙ ЪБЧПТБЮЙЧБФШ ЛПОЕК. еДЧБ НЩ РПДОСМЙУШ ОБ ФПМШЛП ЮФП ПУФБЧМЕООЩК ОБНЙ ИПМН, ЛБЛ ХЧЙДЕМЙ ЧТБЗПЧ, УРХУЛБЧЫЙИУС У РТПФЙЧПРПМПЦОПЗП ИПМНБ. нПК УМХИ ПВЦЕЗ ОЕ ФП ЧЙЪЗ, ОЕ ФП УЧЙУФ, ПДОПЧТЕНЕООП ОБРПНЙОБАЭЙК НПФПТОЩК ЗХДПЛ Й ЫЙРЕОШЕ ВПМШЫПК ЪНЕЙ, РЕТЕДП НОПК НЕМШЛОХМЙ УРЙОЩ ТЧБОХЧЫЙИУС ЛБЪБЛПЧ, Й С УБН ВТПУЙМ РПЧПДШС, ВЕЫЕОП ЪБТБВПФБМ ЫРПТБНЙ, ФПМШЛП ЧЩУЫЙН ОБРТСЦЕОЙЕН ЧПМЙ ЧУРПНОЙЧ, ЮФП ОБДП ПВОБЦЙФШ ЫБЫЛХ. дПМЦОП ВЩФШ, Х ОБУ ВЩМ ПЮЕОШ ТЕЫЙФЕМШОЩК ЧЙД, РПФПНХ ЮФП ОЕНГЩ ВЕЪ ЧУСЛПЗП ЛПМЕВБОЙС РХУФЙМЙУШ ОБХФЕЛ. зОБМЙ ПОЙ ПФЮБСООП, Й ТБУУФПСОЙЕ НЕЦДХ ОБНЙ РПЮФЙ ОЕ ХНЕОШЫБМПУШ. фПЗДБ ВПТПДБФЩК ЛБЪБЛ ЧМПЦЙМ Ч ОПЦОЩ ЫБЫЛХ, РПДОСМ ЧЙОФПЧЛХ, ЧЩУФТЕМЙМ, РТПНБИОХМУС, ЧЩУФТЕМЙМ ПРСФШ, Й ПДЙО ЙЪ ОЕНГЕЧ РПДОСМ ПВЕ ТХЛЙ, ЪБЛБЮБМУС Й, ЛБЛ РПДВТПЫЕООЩК, ЧЩМЕФЕМ ЙЪ УЕДМБ. юЕТЕЪ НЙОХФХ НЩ ХЦЕ ОЕУМЙУШ НЙНП ОЕЗП.
оП ЧУЕНХ ВЩЧБЕФ ЛПОЕГ! оЕНГЩ УЧЕТОХМЙ ЛТХФП ЧМЕЧП, Й ОБЧУФТЕЮХ ОБН РПУЩРБМЙУШ РХМЙ. нЩ ОБУЛПЮЙМЙ ОБ ОЕРТЙСФЕМШУЛХА ГЕРШ. пДОБЛП ЛБЪБЛЙ РПЧЕТОХМЙ ОЕ ТБОШЫЕ, ЮЕН РПКНБМЙ ВЕУРПТСДПЮОП ОПУЙЧЫХАУС МПЫБДШ ХВЙФПЗП ОЕНГБ. пОЙ ЗПОСМЙУШ ЪБ ОЕК, ОЕ ПВТБЭБС ЧОЙНБОЙС ОБ РХМЙ, УМПЧОП Ч УЧПЕК ТПДОПК УФЕРЙ. «вБФХТЙОХ РТЙЗПДЙФУС, ЗПЧПТЙМЙ ПОЙ, Х ОЕЗП ЧЮЕТБ ХВЙМЙ ДПВТПЗП ЛПОС». нЩ ТБУУФБМЙУШ ЪБ ВХЗТПН, ДТХЦЕУЛЙ РПЦБЧ ДТХЗ ДТХЗХ ТХЛЙ.
ыФБВ УЧПК С ОБЫЕМ МЙЫШ ЮБУПЧ ЮЕТЕЪ РСФШ Й ОЕ Ч ДЕТЕЧОЕ, Б РПУТЕДЙ МЕУОПК РПМСОЩ ОБ ОЙЪЛЙИ РОСИ Й УЧБМЕООЩИ УФЧПМБИ ДЕТЕЧШЕЧ. пО ФПЦЕ ПФПЫЕМ ХЦЕ РПД ПЗОЕН ОЕРТЙСФЕМС.
л ЫФБВХ ЛБЪБЮШЕК ДЙЧЙЪЙЙ С ЧЕТОХМУС Ч РПМОПЮШ. рПЕМ ИПМПДОПК ЛХТЙГЩ Й МЕЗ УРБФШ, ЛБЛ ЧДТХЗ ЪБУХЕФЙМЙУШ, РПУМЩЫБМУС РТЙЛБЪ УЕДМБФШ, Й НЩ УОСМЙУШ У ВЙЧБЛБ РП ФТЕЧПЗЕ. вЩМБ ВЕУРТПУЧЕФОБС ФЕНШ. ъБВПТЩ Й ЛБОБЧЩ ЧЩТЙУПЧЩЧБМЙУШ МЙЫШ ФПЗДБ, ЛПЗДБ МПЫБДШ ОБФЩЛБМБУШ ОБ ОЙИ ЙМЙ РТПЧБМЙЧБМБУШ. уРТПУПОПЛ С ДБЦЕ ОЕ ТБЪВЙТБМ ОБРТБЧМЕОЙС. лПЗДБ ЧЕФЧЙ ВПМШОП ИМЕУФБМЙ РП МЙГХ, ЪОБМ, ЮФП ЕДЕН РП МЕУХ, ЛПЗДБ Х УБНЩИ ОПЗ РМЕУЛБМБУШ ЧПДБ, ЪОБМ, ЮФП РЕТЕИПДЙН ЧВТПД ТЕЛЙ. оБЛПОЕГ ПУФБОПЧЙМЙУШ Х ЛБЛПЗП-ФП ВПМШЫПЗП ДПНБ. лПОЕК РПУФБЧЙМЙ ЧП ДЧПТЕ, УБНЙ ЧПЫМЙ Ч УЕОЙ, ЪБЦЗМЙ ПЗБТЛЙ Й ПФЫБФОХМЙУШ, ХУМЩЫБ ЗТПНПЧПК ЗПМПУ ФПМУФПЗП УФБТПЗП ЛУЕОДЪБ, ЧЩЫЕДЫЕЗП ОБН ОБЧУФТЕЮХ Ч ПДОПН ОЙЦОЕН ВЕМШЕ Й У НЕДОЩН РПДУЧЕЮОЙЛПН Ч ТХЛЕ. «юФП ЬФП ФБЛПЕ, ЛТЙЮБМ ПО, НОЕ Й ОПЮША ОЕ ДБАФ РПЛПА! с ОЕ ЧЩУРБМУС, С ЕЭЕ ИПЮХ УРБФШ!»
нЩ РТПВПТНПФБМЙ ТПВЛЙЕ ЙЪЧЙОЕОЙС, ОП ПО РТЩЗОХМ ЧРЕТЕД Й УИЧБФЙМ ЪБ ТХЛБЧ УФБТЫЕЗП ЙЪ ПЖЙГЕТПЧ. «уАДБ, УАДБ, ЧПФ УФПМПЧБС, ЧПФ ЗПУФЙОБС, РХУФШ ЧБЫЙ УПМДБФЩ РТЙОЕУХФ УПМПНЩ. аЪС, ъПУС, РПДХЫЛЙ РБОБН, ДБ ДПУФБОШФЕ ЮЙУФЩЕ ОБЧПМПЮЛЙ». лПЗДБ С РТПУОХМУС, ВЩМП ХЦЕ УЧЕФМП. ыФБВ Ч УПУЕДОЕК ЛПНОБФЕ ЪБОЙНБМУС ДЕМПН, РТЙОЙНБМ ДПОЕУЕОЙС Й ТБУУЩМБМ РТЙЛБЪБОЙС, Б РЕТЕДП НОПК ВХЫЕЧБМ ИПЪСЙО: «чУФБЧБКФЕ УЛПТЕЕ, ЛПЖЕ РТПУФЩОЕФ, ЧУЕ ХЦЕ ДБЧОП ОБРЙМЙУШ!» с ХНЩМУС Й УЕМ ЪБ ЛПЖЕ. лУЕОДЪ УЙДЕМ РТПФЙЧ НЕОС Й УХТПЧП НЕОС ДПРТБЫЙЧБМ. «чЩ ЧПМШОППРТЕДЕМСАЭЙКУС?» «дПВТПЧПМЕГ». «юЕН РТЕЦДЕ ЪБОЙНБМЙУШ?» «вЩМ РЙУБФЕМЕН». «оБУФПСЭЙН?» «пВ ЬФПН С ОЕ НПЗХ УХДЙФШ. чУЕ-ФБЛЙ РЕЮБФБМУС Ч ЗБЪЕФБИ Й ЦХТОБМБИ, ЙЪДБЧБМ ЛОЙЗЙ». «фЕРЕТШ РЙЫЕФЕ ЛБЛЙЕ-ОЙВХДШ ЪБРЙУЛЙ?» «рЙЫХ». еЗП ВТПЧЙ ТБЪДЧЙОХМЙУШ, ЗПМПУ УДЕМБМУС НСЗЛЙН Й РПЮФЙ РТПУЙФЕМШОЩН: «фБЛ ХЦ, РПЦБМХКУФБ, ОБРЙЫЙФЕ ПВП НОЕ, ЛБЛ С ЪДЕУШ ЦЙЧХ, ЛБЛ ЧЩ УП НОПК РПЪОБЛПНЙМЙУШ». с ЙУЛТЕООП ПВЕЭБМ ЕНХ ЬФП. «дБ ОЕФ, ЧЩ ЪБВХДЕФЕ. аЪС, ъПУС, ЛБТБОДБЫ Й ВХНБЗХ!» й ПО ЪБРЙУБМ НОЕ ОБЪЧБОЙЕ ХЕЪДБ Й ДЕТЕЧОЙ, УЧПЕ ЙНС Й ЖБНЙМЙА.
оП ТБЪЧЕ ЮФП-ОЙВХДШ ДЕТЦЙФУС ЪБ ПВЫМБЗПН ТХЛБЧБ, ЛХДБ ЛБЧБМЕТЙУФЩ ПВЩЛОПЧЕООП РТСЮХФ ТБЪОЩЕ ЪБРЙУЛЙ, ДЕМПЧЩЕ, МАВПЧОЩЕ Й РТПУФП ФБЛ? юЕТЕЪ ФТЙ ДОС С ХЦЕ РПФЕТСМ ЧУЕ, Й ЬФХ Ч ФПН ЮЙУМЕ. й ЧПФ ФЕРЕТШ С МЙЫЕО ЧПЪНПЦОПУФЙ ПФВМБЗПДБТЙФШ ДПУФПРПЮФЕООПЗП РБФЕТБ (ОЕ ЪОБА ЕЗП ЖБНЙМЙЙ) ЙЪ ДЕТЕЧОЙ (ЪБВЩМ ЕЕ ОБЪЧБОЙЕ) ОЕ ЪБ РПДХЫЛХ Ч ЮЙУФПК ОБЧПМПЮЛЕ, ОЕ ЪБ ЛПЖЕ У ЧЛХУОЩНЙ РЩЫЛБНЙ, ОП ЪБ ЕЗП ЗМХВПЛХА МБУЛПЧПУФШ РПД УХТПЧЩНЙ НБОЕТБНЙ Й ЪБ ФП, ЮФП ПО ФБЛ СТЛП ОБРПНОЙМ НОЕ ФЕИ ХДЙЧЙФЕМШОЩИ УФБТЙЛПЧ-ПФЫЕМШОЙЛПЧ, ЛПФПТЩЕ ФБЛ ЦЕ УУПТСФУС Й ДТХЦБФУС У ОПЮОЩНЙ РХФОЙЛБНЙ Ч ДБЧОП ЪБВЩФЩИ, ОП ОЕЛПЗДБ НОПА МАВЙНЩИ ТПНБОБИ чБМШФЕТБ уЛПФФБ.
жТПОФ ВЩМ ЧЩТПЧОЕО. лПЕ-ЗДЕ РЕИПФБ ПФВЙЧБМБ РТПФЙЧОЙЛБ, ЧППВТБЪЙЧЫЕЗП, ЮФП ПО ОБУФХРБЕФ РП УПВУФЧЕООПК ЙОЙГЙБФЙЧЕ, ЛБЧБМЕТЙС ЪБОЙНБМБУШ ХУЙМЕООПК ТБЪЧЕДЛПК. оБЫЕНХ ТБЪЯЕЪДХ ВЩМП РПТХЮЕОП ОБВМАДБФШ ЪБ ПДОЙН ЙЪ ФБЛЙИ ВПЕЧ Й УППВЭБФШ ПВ ЕЗП ТБЪЧЙФЙЙ Й УМХЮБКОПУФСИ Ч ЫФБВ. нЩ ОБЗОБМЙ РЕИПФХ Ч МЕУХ. нБМЕОШЛЙЕ УЕТЩЕ УПМДБФЙЛЙ УП УЧПЙНЙ ПЗТПНОЩНЙ УХНЛБНЙ ЫМЙ ЧТБЪВТПД, ФЕТССУШ ОБ ЖПОЕ ЛХУФБТОЙЛБ Й УПУОПЧЩИ УФЧПМПЧ. пДОЙ ОБ ИПДХ ЪБЛХУЩЧБМЙ, ДТХЗЙЕ ЛХТЙМЙ, НПМПДПК РТБРПТЭЙЛ ЧЕУЕМП РПНБИЙЧБМ ФТПУФША. ьФП ВЩМ ЙУРЩФБООЩК, УМБЧОЩК РПМЛ, ЛПФПТЩК Ч ВПК ЫЕМ, ЛБЛ ОБ ПВЩЮОХА РПМЕЧХА ТБВПФХ; Й ЮХЧУФЧПЧБМПУШ, ЮФП Ч ОХЦОХА НЙОХФХ ЧУЕ ПЛБЦХФУС ОБ УЧПЙИ НЕУФБИ ВЕЪ РХФБОЙГЩ, ВЕЪ УХНБФПИЙ Й ЛБЦДЩК ПФМЙЮОП ЪОБЕФ, ЗДЕ ПО ДПМЦЕО ВЩФШ Й ЮФП ДЕМБФШ.
вБФБМШПООЩК ЛПНБОДЙТ ЧЕТИПН ОБ МПИНБФПК ЛБЪБЮШЕК МПЫБДЛЕ РПЪДПТПЧБМУС У ОБЫЙН ПЖЙГЕТПН Й РПРТПУЙМ ЕЗП ХЪОБФШ, ЕУФШ МЙ РЕТЕД ДЕТЕЧОЕК, ОБ ЛПФПТХА ПО ОБУФХРБМ, ОЕРТЙСФЕМШУЛЙЕ ПЛПРЩ. нЩ ВЩМЙ ПЮЕОШ ТБДЩ РПНПЮШ РЕИПФЕ, Й УЕКЮБУ ЦЕ ВЩМ ЧЩУМБО ХОФЕТ-ПЖЙГЕТУЛЙК ТБЪЯЕЪД, ЛПФПТЩК РПЧЕМ С. нЕУФОПУФШ ВЩМБ ХДЙЧЙФЕМШОП ХДПВОБС ДМС ЛБЧБМЕТЙЙ, ИПМНЩ, ЙЪ-ЪБ ЛПФПТЩИ НПЦОП ВЩМП ОЕПЦЙДБООП РПЛБЪБФШУС, Й ПЧТБЗЙ, РП ЛПФПТЩН МЕЗЛП ВЩМП ХИПДЙФШ.
еДЧБ С РПДОСМУС ОБ РЕТЧЩК РТЙЗПТПЛ, ЭЕМЛОХМ ЧЩУФТЕМ ЬФП ВЩМ ФПМШЛП ОЕРТЙСФЕМШУЛЙК УЕЛТЕФ. с ЧЪСМ ЧРТБЧП Й РТПЕИБМ ДБМШЫЕ. ч ВЙОПЛМШ ВЩМП ЧЙДОП ЧУЕ РПМЕ ДП ДЕТЕЧОЙ, ПОП ВЩМП РХУФП. с РПУМБМ ПДОПЗП ЮЕМПЧЕЛБ У ДПОЕУЕОЙЕН, Б УБН У ПУФБМШОЩНЙ ФТЕНС УПВМБЪОЙМУС РХЗОХФШ ПВУФТЕМСЧЫЙК ОБУ УЕЛТЕФ. дМС ФПЗП, ЮФПВЩ ФПЮОЕЕ ХЪОБФШ, ЗДЕ ПО ЪБМЕЗ, С УОПЧБ ЧЩУХОХМУС ЙЪ ЛХУФПЧ, ХУМЩЫБМ ЕЭЕ ЧЩУФТЕМ Й ФПЗДБ, ОБНЕФЙЧ ОЕВПМШЫПК РТЙЗПТПЛ, РПНЮБМУС РТСНП ОБ ОЕЗП, УФБТБСУШ ПУФБЧБФШУС ОЕЧЙДЙНЩН УП УФПТПОЩ ДЕТЕЧОЙ. нЩ ДПУЛБЛБМЙ ДП РТЙЗПТЛБ ОЙЛПЗП. оЕХЦЕМЙ С ПЫЙВУС? оЕФ, ЧПФ ПДЙО ЙЪ НПЙИ МАДЕК, УРЕЫЙЧЫЙУШ, РПДПВТБМ ОПЧЕОШЛХА БЧУФТЙКУЛХА ЧЙОФПЧЛХ, ДТХЗПК ЪБНЕФЙМ УЧЕЦЕОБТХВМЕООЩЕ ЧЕФЧЙ, ОБ ЛПФПТЩИ ФПМШЛП ЮФП МЕЦБМ БЧУФТЙКУЛЙК УЕЛТЕФ. нЩ РПДОСМЙУШ ОБ ИПМН Й ХЧЙДЕМЙ ФТПЙИ ВЕЗХЭЙИ ЧП ЧУА РТЩФШ МАДЕК. чЙДЙНП, ЙИ УНЕТФЕМШОП РЕТЕРХЗБМБ ОБЫБ ОЕПЦЙДБООБС ЛПООБС БФБЛБ, РПФПНХ ЮФП ПОЙ ОЕ УФТЕМСМЙ Й ДБЦЕ ОЕ ПВПТБЮЙЧБМЙУШ. рТЕУМЕДПЧБФШ ЙИ ВЩМП ОЕЧПЪНПЦОП, ОБУ ПВУФТЕМСМЙ ВЩ ЙЪ ДЕТЕЧОЙ, ЛТПНЕ ФПЗП, ОБЫБ РЕИПФБ ХЦЕ ЧЩЫМБ ЙЪ МЕУХ Й ОБН ОЕМШЪС ВЩМП ФПТЮБФШ РЕТЕД ЕЕ ЖТПОФПН. нЩ ЧЕТОХМЙУШ Л ТБЪЯЕЪДХ Й, ТБУУЕЧЫЙУШ ОБ ЛТЩЫЕ Й ТБЪЧЕУЙУФЩИ ЧСЪБИ УФБТПК НЕМШОЙГЩ, УФБМЙ ОБВМАДБФШ ЪБ ВПЕН.
дЙЧОПЕ ЪТЕМЙЭЕ ОБУФХРМЕОЙЕ ОБЫЕК РЕИПФЩ. лБЪБМПУШ, УЕТПЕ РПМЕ ПЦЙМП, ОБЮБМП НПТЭЙФШУС, ЧЩВТБУЩЧБС ЙЪ УЧПЙИ ОЕДТ ЧППТХЦЕООЩИ МАДЕК ОБ ПВТЕЮЕООХА ДЕТЕЧОА. лХДБ ОЙ ПВТБЭБМУС ЧЪЗМСД, ПО ЧЕЪДЕ ЧЙДЕМ УЕТЩЕ ЖЙЗХТЩ, ВЕЗХЭЙЕ, РПМЪХЭЙЕ, МЕЦБЭЙЕ. уПУЮЙФБФШ ЙИ ВЩМП ОЕЧПЪНПЦОП. оЕ ЧЕТЙМПУШ, ЮФП ЬФП ВЩМЙ ПФДЕМШОЩЕ МАДЙ, УЛПТЕЕ ЬФП ВЩМ ГЕМШОЩК ПТЗБОЙЪН, УХЭЕУФЧП ВЕУЛПОЕЮОП УЙМШОЕЕ Й УФТБЫОЕЕ ДЙОПФЕТЙХНПЧ Й РМЕЪЙПЪБЧТПЧ. й ДМС ЬФПЗП УХЭЕУФЧБ ЧПЪТПЦДБМУС ЧЕМЙЮЕУФЧЕООЩК ХЦБУ ЛПУНЙЮЕУЛЙИ РЕТЕЧПТПФПЧ Й ЛБФБУФТПЖ. лБЛ ЗХМ ЪЕНМЕФТСУЕОЙК, ЗТПИПФБМЙ ПТХДЙКОЩЕ ЪБМРЩ Й ОЕУНПМЛБЕНЩК ФТЕУЛ ЧЙОФПЧПЛ, ЛБЛ ВПМЙДЩ, МЕФБМЙ ЗТБОБФЩ Й ТЧБМБУШ ЫТБРОЕМШ. дЕКУФЧЙФЕМШОП, РП УМПЧХ РПЬФБ, ОБУ РТЙЪЧБМЙ ЧУЕВМБЗЙЕ, ЛБЛ УПВЕУЕДОЙЛПЧ ОБ РЙТ, Й НЩ ВЩМЙ ЪТЙФЕМСНЙ ЙИ ЧЩУПЛЙИ ЪТЕМЙЭ. й С, Й ЙЪСЭОЩК РПТХЮЙЛ У ВТБУМЕФПН ОБ ТХЛБИ, Й ЧЕЦМЙЧЩК ХОФЕТ, Й ТСВПК ЪБРБУОПК, ВЩЧЫЙК ДЧПТОЙЛ, НЩ ПЛБЪБМЙУШ УЧЙДЕФЕМСНЙ УГЕОЩ, ВПМШЫЕ ЧУЕЗП ОБРПНЙОБЧЫЕК ФТЕФЙЮОЩК РЕТЙПД ЪЕНМЙ. с ДХНБМ, ЮФП ФПМШЛП Ч ТПНБОБИ хЬММУБ ВЩЧБАФ ФБЛЙЕ РБТБДПЛУЩ.
оП НЩ ОЕ ПЛБЪБМЙУШ ОБ ЧЩУПФЕ РПМПЦЕОЙС Й УПЧУЕН ОЕ ВЩМЙ РПИПЦЙ ОБ ПМЙНРЙКГЕЧ. лПЗДБ ВПК ТБЪЗПТБМУС, НЩ ФТЕЧПЦЙМЙУШ ЪБ ЖМБОЗ ОБЫЕК РЕИПФЩ, ЗТПНЛП ТБДПЧБМЙУШ ЕЕ МПЧЛЙН НБОЕЧТБН, Ч НЙОХФХ ЪБФЙЫШС ЧЩРТБЫЙЧБМЙ ДТХЗ Х ДТХЗБ РБРЙТПУЩ, ДЕМЙМЙУШ ИМЕВПН Й УБМПН, ТБЪЩУЛЙЧБМЙ УЕОБ ДМС МПЫБДЕК. чРТПЮЕН, НПЦЕФ ВЩФШ, ФБЛПЕ РПЧЕДЕОЙЕ ВЩМП ЕДЙОУФЧЕООЩН ДПУФПКОЩН РТЙ ДБООЩИ ПВУФПСФЕМШУФЧБИ.
нЩ ЧЯЕИБМЙ Ч ДЕТЕЧОА, ЛПЗДБ ОБ ДТХЗПН ЛПОГЕ ЕЕ ЕЭЕ ЛЙРЕМ ВПК. оБЫБ РЕИПФБ ДЧЙЗБМБУШ ПФ ИБМХРЩ ДП ИБМХРЩ ЧУЕ ЧТЕНС УФТЕМСС, ЙОПЗДБ ЙДС Ч ЫФЩЛЙ. уФТЕМСМЙ Й БЧУФТЙКГЩ, ОП ПФ ЫФЩЛПЧПЗП ВПС ХЛМПОСМЙУШ, УРБУБСУШ РПД ЪБЭЙФХ РХМЕНЕФПЧ. нЩ ЧПЫМЙ Ч ЛТБКОАА ИБМХРХ, ЗДЕ УПВЙТБМЙУШ ТБОЕОЩЕ. йИ ВЩМП ЮЕМПЧЕЛ ДЕУСФШ. пОЙ ВЩМЙ ЪБОСФЩ ТБВПФПК. тБОЕООЩЕ Ч ТХЛХ РТЙФБУЛЙЧБМЙ ЦЕТДЙ, ДПУЛЙ Й ЧЕТЕЧЛЙ, ТБОЕООЩЕ Ч ОПЗХ ВЩУФТП ХУФТБЙЧБМЙ ЙЪ ЧУЕЗП ЬФПЗП ОПУЙМЛЙ ДМС УЧПЕЗП ФПЧБТЙЭБ У ОБУЛЧПЪШ РТПУФТЕМЕООПК ЗТХДША. иНХТЩК БЧУФТЙЕГ, У ЗПТМПН, РТПФЛОХФЩН ЫФЩЛПН, УЙДЕМ Ч ХЗМХ, ЛБЫМСМ Й ВЕУРТЕТЩЧОП ЛХТЙМ ГЙЗБТЛЙ, ЛПФПТЩЕ ЕНХ ЧЕТФЕМЙ ОБЫЙ УПМДБФЩ. лПЗДБ ОПУЙМЛЙ ВЩМЙ ЗПФПЧЩ, ПО ЧУФБМ, ХГЕРЙМУС ЪБ ПДОХ ЙЪ ТХЮЕЛ Й ЪОБЛБНЙ ЗПЧПТЙФШ ПО ОЕ НПЗ РПЛБЪБМ, ЮФП ИПЮЕФ РПНПЗБФШ ЙИ ОЕУФЙ. у ОЙН ОЕ УФБМЙ УРПТЙФШ Й ФПМШЛП УЛТХФЙМЙ ЕНХ УТБЪХ ДЧЕ ГЙЗБТЛЙ. нЩ ЧПЪЧТБЭБМЙУШ ПВТБФОП ОЕНОПЗП ТБЪПЮБТПЧБООЩЕ. оБЫБ ОБДЕЦДБ Ч ЛПООПН УФТПА РТЕУМЕДПЧБФШ ВЕЗХЭЕЗП ОЕРТЙСФЕМС ОЕ ПРТБЧДЩЧБМБУШ. бЧУФТЙКГЩ ЪБУЕМЙ Ч ПЛПРБИ ЪБ ДЕТЕЧОЕК, Й ВПК ОБ ЬФПН РТЙЛПОЮЙМУС.
ьФЙ ДОЙ ОБН НОПЗП РТЙЫМПУШ ТБВПФБФШ ЧНЕУФЕ У РЕИПФПК, Й НЩ ЧРПМОЕ ПГЕОЙМЙ ЕЕ ОЕРПЛПМЕВЙНХА УФПКЛПУФШ Й УРПУПВОПУФШ Л ВЕЫЕОПНХ РПТЩЧХ. ч РТПДПМЦЕОЙЕ ДЧХИ ДОЕК С ВЩМ УЧЙДЕФЕМЕН ВПС [...] нБМЕОШЛЙК ПФТСД ЛБЧБМЕТЙЙ, РПУМБООЩК ДМС УЧСЪЙ У РЕИПФПК, ПУФБОПЧЙМУС Ч ДПНЕ МЕУОЙЛБ, Ч ДЧХИ ЧЕТУФБИ ПФ НЕУФБ ВПС, Б ВПК ЛЙРЕМ РП ПВЕ УФПТПОЩ ТЕЛЙ. л ОЕК РТЙИПДЙМПУШ УРХУЛБФШУС У УПЧЕТЫЕООП ПФЛТЩФПЗП ПФМПЗПЗП ВХЗТБ, Й ОЕНЕГЛБС БТФЙММЕТЙС ВЩМБ ФБЛ ВПЗБФБ УОБТСДБНЙ, ЮФП ПВУФТЕМЙЧБМБ ЛБЦДПЗП ПДЙОПЮОПЗП ЧУБДОЙЛБ. оПЮША ВЩМП ОЕ МХЮЫЕ. дЕТЕЧОС РЩМБМБ, Й ПФ ЪБТЕЧБ ВЩМП УЧЕФМП, ЛБЛ Ч УБНЩЕ СУОЩЕ, МХООЩЕ ОПЮЙ, ЛПЗДБ ФБЛ ЮЕФЛП ТЙУХАФУС УЙМХЬФЩ. рТПУЛБЛБЧ ЬФПФ ПРБУОЩК ВХЗПТ, НЩ УТБЪХ РПРБДБМЙ Ч УЖЕТХ ТХЦЕКОПЗП ПЗОС, Б ДМС ЧУБДОЙЛБ, РТЕДУФБЧМСАЭЕЗП УПВПК ПФМЙЮОХА ГЕМШ, ЬФП ПЮЕОШ ОЕХДПВОП. рТЙИПДЙМПУШ ЦБФШУС ЪБ ИБМХРБНЙ, ЛПФПТЩЕ ХЦЕ ОБЮЙОБМЙ ЪБЗПТБФШУС.
рЕИПФБ РЕТЕРТБЧЙМБУШ ЮЕТЕЪ ТЕЛХ ОБ РПОФПОБИ, Ч ДТХЗПН НЕУФЕ ФП ЦЕ ДЕМБМЙ ОЕНГЩ. дЧЕ ОБЫЙ ТПФЩ ВЩМЙ ПЛТХЦЕОЩ ОБ ФПК УФПТПОЕ, ПОЙ ЫФЩЛБНЙ РТПВЙМЙУШ Л ЧПДЕ Й ЧРМБЧШ РТЙУПЕДЙОЙМЙУШ Л УЧПЕНХ РПМЛХ. оЕНГЩ ЧЪЗТПНПЪДЙМЙ ОБ ЛПУФЕМ РХМЕНЕФЩ, ЛПФПТЩЕ РТЙОПУЙМЙ ОБН НОПЗП ЧТЕДБ. оЕВПМШЫБС РБТФЙС ОБЫЙИ ТБЪЧЕДЮЙЛПЧ РП ЛТЩЫБН Й УЛЧПЪШ ПЛОБ ДПНПЧ РПДПВТБМБУШ Л ЛПУФЕМХ, ЧПТЧБМБУШ Ч ОЕЗП, УЛЙОХМБ ЧОЙЪ РХМЕНЕФЩ Й РТПДЕТЦБМБУШ ДП РТЙИПДБ РПДЛТЕРМЕОЙС. ч ГЕОФТЕ ЛЙРЕМ ОЕРТЕТЩЧОЩК ЫФЩЛПЧПК ВПК, Й ОЕНЕГЛБС БТФЙММЕТЙС ЪБУЩРБМБ УОБТСДБНЙ Й ОБЫЙИ Й УЧПЙИ. оБ ПЛТБЙОБИ, ЗДЕ ОЕ ВЩМП ФБЛПК УХНБФПИЙ, РТПЙУИПДЙМЙ УГЕОЩ РТСНП ЮХДЕУОПЗП ЗЕТПКУФЧБ. оЕНГЩ ПФВЙМЙ ДЧБ ОБЫЙИ РХМЕНЕФБ Й ФПТЦЕУФЧЕООП РПЧЕЪМЙ ЙИ Л УЕВЕ. пДЙО ОБЫ ХОФЕТ-ПЖЙГЕТ, РХМЕНЕФЮЙЛ, УИЧБФЙМ ДЧЕ ТХЮОЩЕ ВПНВЩ Й ВТПУЙМУС ЙН ОБРЕТЕТЕЪ. рПДВЕЦБМ ЫБЗПЧ ОБ ДЧБДГБФШ Й ЛТЙЛОХМ: «чЕЪЙФЕ РХМЕНЕФЩ ПВТБФОП, ЙМЙ ХВША Й ЧБУ Й УЕВС». оЕУЛПМШЛП ОЕНГЕЧ ЧУЛЙОХМЙ Л РМЕЮХ ЧЙОФПЧЛЙ. фПЗДБ ПО ВТПУЙМ ВПНВХ, ЛПФПТБС ХВЙМБ ФТПЙИ Й РПТБОЙМБ ЕЗП УБНПЗП. у ПЛТПЧБЧМЕООЩН МЙГПН ПО РПДУЛПЮЙМ Л ЧТБЗБН ЧРМПФОХА Й, РПФТСУБС ПУФБЧЫЕКУС ВПНВПК, РПЧФПТЙМ УЧПК РТЙЛБЪ. оБ ЬФПФ ТБЪ ОЕНГЩ РПУМХЫБМЙУШ Й РПЧЕЪМЙ РХМЕНЕФЩ Ч ОБЫХ УФПТПОХ. б ПО ЫЕМ ЪБ ОЙНЙ, ЧЩЛТЙЛЙЧБС ВЕУУЧСЪОЩЕ ТХЗБФЕМШУФЧБ Й ЛПМПФС ОЕНГЕЧ ВПНВПК РП УРЙОБН. с ЧУФТЕФЙМ ЬФП УФТБООПЕ ЫЕУФЧЙЕ ХЦЕ Ч РТЕДЕМБИ ОБЫЕЗП ТБУРПМПЦЕОЙС. зЕТПК ОЕ РПЪЧПМСМ ОЙЛПНХ РТЙЛПУОХФШУС ОЙ Л РХМЕНЕФБН, ОЙ Л РМЕООЩН, ПО ЧЕМ ЙИ Л УЧПЕНХ ЛПНБОДЙТХ. лБЛ Ч ВТЕДХ, ОЕ ЗМСДС ОЙ ОБ ЛПЗП, ТБУУЛБЪЩЧБМ ПО П УЧПЕН РПДЧЙЗЕ: «чЙЦХ, РХМЕНЕФЩ ФБЭБФ. оХ, ДХНБА, УБН РТПРБДХ, РХМЕНЕФЩ ЧЕТОХ. пДОХ ВПНВХ ВТПУЙМ, ДТХЗБС ЧПФ. рТЙЗПДЙФУС. цБМЛП ЦЕ РХМЕНЕФЩ, Й УЕКЮБУ ЦЕ ПРСФШ РТЙОЙНБМУС ЛТЙЮБФШ ОБ УНЕТФЕМШОП ВМЕДОЩИ ОЕНГЕЧ: оХ, ОХ, ЙДЙ, ОЕ ЪБДЕТЦЙЧБКУС!»
Вокруг «Записок кавалериста» - 1914-1915.
Польша, оборона Петрокова и первый «Георгий».
Как было сказано в предыдущем выпуске, начало ноября Лейб-Гвардии Уланский полк провел на отдыхе в Ковно, о чем Гумилёв успел написать Лозинскому, кратко рассказав о своем «боевом крещении» 1 . 8 ноября в дивизии был получен приказ Южная Польша — одно из красивейших мест России. Мы ехали верст восемьдесят от станции железной дороги до соприкосновения с неприятелем, и я успел вдоволь налюбоваться ею. Гор, утехи туристов, там нет, но на что равнинному жителю горы? Есть леса, есть воды, и этого довольно вполне.
Леса сосновые, саженые, и, проезжая по ним, вдруг видишь узкие, прямые, как стрелы, аллеи, полные зеленым сумраком с сияющим просветом вдали, — словно храмы ласковых и задумчивых богов древней, еще языческой Польши. Там водятся олени и косули, с куриной повадкой пробегают золотистые фазаны, в тихие ночи слышно, как чавкает и ломает кусты кабан. Среди широких отмелей размытых берегов лениво извиваются реки; широкие, с узенькими между них перешейками, озера блестят и отражают небо, как зеркала из полированного металла; у старых мшистых мельниц тихие запруды с нежно журчащими струйками воды и каким-то розово-красным кустарником, странно напоминающим человеку его детство.
В таких местах, что бы ты ни делал — любил или воевал, — все представляется значительным и чудесным.
Это были дни больших сражений. С утра до поздней ночи мы слышали грохотанье пушек, развалины еще дымились, и то там, то сям кучки жителей зарывали трупы людей и лошадей...
Выгрузившись 13 ноября на станции Ивангород, Уланский полк сразу же проследовал в город Радом. Полк должен был принять участие в так называемой «Петроковской операции» Польша, долина речки Пилицы, вдоль которой проходили уланы
Старинный военный форт в окрестностях Ивангорода. Современный Радом
Далее, в боевом порядке, был выполнен марш-маневр от Радома до района ж/д станции Колюшки и города Петрокова Польша, костел в Потворове, где был первый ночлег Уланского полка
. 14 ноября, пройдя через Подчащу Волю, Кльвов, Одрживоль, Ново-Място, Уланский полк дошел до района Ржечицы. В основном, вся дорога, как и все последующие события, проходили в долине реки Пилица и на ее берегах. 15 ноября, двигаясь из Ржечицы через Любохню, в сторону станции Колюшки, уланы дошли до господского двора Янков и Уязда, расположенных в нескольких верстах севернее станции, где остановились на ночлег. Дорога проходила среди лесов, по долинам равнинных рек Радомки, Држевицы, Пилицы. С 15 ноября 2-я Гв. кав. дивизия вошла во временно сформированный кавалерийский корпус Гилленшмидта (совместно с 1-й Гвардейской кавалерийской дивизией, 13-й кавалерийской дивизией, 5-й Донской казачьей дивизией, Уральской казачьей дивизией и 2-й бригадой Забайкальской казачьей дивизии) 16 ноября Уланский полк, после предварительной разведки, так как расположение противника было неизвестно, прибыл на описываемую Гумилёвым станцию Колюшки и расположился на ночлег в ближайшей деревне Катаржинов. ... Я был назначен в летучую почту на станции К. Мимо нее уже проходили поезда, хотя чаще всего под обстрелом. Из жителей там остались только железнодорожные служащие; они встретили нас с изумительным радушием. Четыре машиниста спорили за честь приютить наш маленький отряд. Когда наконец один одержал верх, остальные явились к нему в гости и принялись обмениваться впечатлениями. Надо было видеть, как горели от восторга их глаза, когда они рассказывали, что вблизи их поезда рвалась шрапнель, в паровоз ударила пуля. Чувствовалось, что только недостаток инициативы помешал им записаться добровольцами. Мы расстались друзьями, обещали друг другу писать, но разве такие обещания когда-нибудь сдерживаются?
Противник медленно отходил от станции, в донесениях Княжевича говорится: «.Перехожу сегодня в р-н Колюшки. Части противника бродят в лесах у Колюшек, много пленных» На другой день, среди милого безделья покойного бивака, когда читаешь желтые книжки Универсальной библиотеки, чистишь винтовку или попросту болтаешь с хорошенькими паненками, нам внезапно скомандовали седлать, и так же внезапно переменным аллюром мы сразу прошли верст пятьдесят. Мимо мелькали одно за другим сонные местечки, тихие и величественные усадьбы, на порогах домов старухи в наскоро наброшенных на голову платках вздыхали, бормоча: «Ой, Матка Бозка». И, выезжая временами на шоссе, мы слушали глухой, как морской прибой, стук бесчисленных копыт и догадывались, что впереди и позади нас идут другие кавалерийские части и что нам предстоит большое дело.
Ночь далеко перевалила за половину, когда мы стали на бивак. Утром нам пополнили запас патронов, и мы двинулись дальше.
На следующий день, 19 ноября
, движение улан в сторону Петрокова было продолжено. К Уланскому полку у деревни Грабица присоединилась конная артиллерия Местность была пустынная: какие-то буераки, низкорослые ели, холмы. Мы построились в боевую линию, назначили, кому спешиваться, кому быть коноводом, выслали вперед разъезды и стали ждать. Поднявшись на пригорок и скрытый деревьями, я видел перед собой пространство приблизительно с версту. По нему там и сям были рассеяны наши заставы. Они были так хорошо скрыты, что большинство я разглядел лишь тогда, когда, отстреливаясь, они стали уходить. Почти следом за ними показались германцы. В поле моего зрения попали три колонны, двигавшиеся шагах в пятистах друг от друга. Они шли густыми толпами и пели. Это была не какая-нибудь определенная песня и даже не наше дружное «ура», а две или три ноты, чередующиеся со свирепой и угрюмой энергией. Я не сразу понял, что поющие — мертвецки пьяны. Так странно было слышать это пение, что я не замечал ни грохота наших орудий, ни ружейной пальбы, ни частого, дробного стука пулеметов. Дикое «а...а...а...» властно покорило мое сознание. Я видел только, как над самыми головами врагов взвиваются облачки шрапнелей, как падают передние ряды, как другие становятся на их место и продвигаются на несколько шагов, чтобы лечь и дать место следующим. Похоже было на разлив весенних вод, — те же медленность и неуклонность.
Но вот наступила и моя очередь вступить в бой. Послышалась команда: «Ложись... прицел восемьсот... эскадрон, пли», и я уже ни о чем не думал, а только стрелял и заряжал, стрелял и заряжал. Лишь где-то в глубине сознанья жила уверенность, что все будет как нужно, что в должный момент нам скомандуют идти в атаку или садиться на коней и тем или другим мы приблизим ослепительную радость последней победы.
В этой части «Записок кавалериста» я вынужден отклониться от порядка расположения главок в газетной публикации (и, следовательно, во всех прочих публикациях). Концовка главы III относится к более позднему периоду и будет приведена ниже. Следующая глава IV
(и концовка главы III) охватывает события с 20 по 30 ноября 1914 года. В конце предыдущей III главы и в начале IV главы присутствует явное, но, по-видимому, случайное нарушение хронологической последовательности.
Возможно, это произошло после цензурных сокращений, но не исключено и то, что сам Гумилёв, когда записывал и восстанавливал события чрезвычайно насыщенных событиями дня и ночи 20-21 ноября, бессознательно растянул эпизоды одного дня на ряд последующих дней. Это и не удивительно, если принять во внимание то, что несколько дней никто в полку не спал. Записи же делались, наверняка, спустя некоторое время, так как последующая неделя была чрезвычайно напряженной, с непрерывными разъездами, столкновениями с противником. Ближайший краткий отдых отряду был предоставлен только спустя неделю, после 28 ноября. Да и тогда совершенно не очевидно, что у Гумилёва было время «взяться за перо», продолжив дневниковые записи. На основе боевых документов можно попытаться реконструировать следующую последовательность событий (переставив соответственно фрагменты «Записок»). Вслед за описанием боя в главе III, перед выделенной со всех сторон цензурными отточиями фразой: " <...> Поздно ночью мы отошли на бивак <...> в большое имение
<...> " — следует читать эпизод "2" в главе IV. Этот эпизод описывает ночь с 20 на 21 ноября, когда эскадрон улан, в котором состоял Гумилёв, был отправлен на разведку для выяснения расположения противника после боя. Упоминаемый в этой главе взводный — поручик Михаил Михайлович Чичагов, о котором было сказано в примечании «25» предыдущего выпуска в связи с посвященным ему стихотворением «Война». Чичагов (без обозначения имени) регулярно упоминается в других главах «Записок», однако чаще его имя встречается в боевых документах. В том числе, сохранились много подписанных им донесений, посланных непосредственно из боевых разъездов, написанных на клочках бумаги; скорее всего, в их написании (и доставке) непосредственное участие принимал и Гумилёв. Сторожевое охранение гусар, до которого доехал Гумилёвский разъезд, было выставлено по линии деревень Мзурки — Будков — Пекари — Монколице. В донесении гусар об этой ночи сказано: «Ночью было получено приказание немедленно выступить и задержать наступление противника на г. Петровов до подхода нашей пехоты. Уже у м. Белхатов шел бой, где Уральская дивизия задерживала наступление противника, обозначившееся на шоссе Белхатов — Петроков. <...> Правее нас у дер. Велеполе — Сухнице находился Уланский полк, который выдерживал весь натиск на себе.
<...> Сторожевое охранение на линии дд. Мзурки — Будков — Пекари — Монколице. Была обстреляна застава и заняты Монколице. Всю ночь шла перестрелка между неприятелем и нашими полевыми караулами. За ночь убит 1 гусар, посланный для связи с Уланами Е. В. полка...» «Художественные» подробности этой ночи — у Гумилёва. На другой день уже смеркалось и все разбрелись по сеновалам и клетушкам большой усадьбы, когда внезапно было велено собраться нашему взводу. Вызвали охотников идти в ночную пешую разведку, очень опасную, как настаивал офицер.
Человек десять порасторопнее вышли сразу; остальные, потоптавшись, объявили, что они тоже хотят идти и только стыдились напрашиваться. Тогда решили, что взводный назначит охотников. И таким образом были выбраны восемь человек, опять-таки побойчее. В числе их оказался и я.
Мы на конях доехали до гусарского сторожевого охранения. За деревьями спешились, оставили троих коноводами и пошли расспросить гусар, как обстоят дела. Усатый вахмистр, запрятанный в воронке от тяжелого снаряда, рассказал, что из ближайшей деревни несколько раз выходили неприятельские разведчики, крались полем к нашим позициям и он уже два раза стрелял. Мы решили пробраться в эту деревню и, если возможно, забрать какого-нибудь разведчика живьем.
Светила полная луна, но, на наше счастье, она то и дело скрывалась за тучами. Выждав одно из таких затмений, мы, согнувшись, гуськом побежали к деревне, но не по дороге, а в канаве, идущей вдоль нее. У околицы остановились. Отряд должен был оставаться здесь и ждать, двум охотникам предлагалось пройти по деревне и посмотреть, что делается за нею. Пошли я и один запасной унтер-офицер, прежде вежливый служитель в каком-то казенном учреждении, теперь один из храбрейших солдат считающегося боевым эскадрона. Он по одной стороне улицы, я — по другой. По свистку мы должны были возвращаться назад.
Вот я совсем один посреди молчаливой, словно притаившейся деревни, из-за угла одного дома перебегаю к углу следующего. Шагах в пятнадцати вбок мелькает крадущаяся фигура. Это мой товарищ. Из самолюбия я стараюсь идти впереди его, но слишком торопиться все-таки страшно. Мне вспоминается игра в палочку-воровочку, в которую я всегда играю летом в деревне. Там то же затаенное дыхание, то же веселое сознание опасности, то же инстинктивное умение подкрадываться и прятаться. И почти забываешь, что здесь вместо смеющихся глаз хорошенькой девушки, товарища по игре, можешь встретить лишь острый и холодный направленный на тебя штык. Вот и конец деревни. Становится чуть светлее, это луна пробивается сквозь неплотный край тучи; я вижу перед собой невысокие, темные бугорки окопов и сразу запоминаю, словно фотографирую в памяти, их длину и направление. Ведь за этим я сюда и пришел. В ту же минуту передо мной вырисовывается человеческая фигура. Она вглядывается в меня и тихонько свистит каким-то особенным, очевидно условным, свистом. Это враг, столкновение неизбежно.
Во мне лишь одна мысль, живая и могучая, как страсть, как бешенство, как экстаз: я его или он меня! Он нерешительно поднимает винтовку, я знаю, что мне стрелять нельзя, врагов много поблизости, и бросаюсь вперед с опущенным штыком. Мгновение, и передо мной никого. Может быть, враг присел на землю, может быть, отскочил. Я останавливаюсь и начинаю всматриваться. Что-то чернеет. Я приближаюсь и трогаю штыком, — нет, это — бревно. Что-то чернеет опять. Вдруг сбоку от меня раздается необычайно громкий выстрел, и пуля воет обидно близко перед моим лицом. Я оборачиваюсь, в моем распоряжении несколько секунд, пока враг будет менять патрон в магазине винтовки. Но уже из окопов слышится противное харканье выстрелов — тра, тра, тра, — и пули свистят, ноют, визжат.
Я побежал к своему отряду. Особенного страха я не испытывал, я знал, что ночная стрельба недействительна, и мне только хотелось проделать все как можно правильнее и лучше. Поэтому, когда луна осветила поле, я бросился ничком и так отполз в тень домов, там уже идти было почти безопасно. Мой товарищ, унтер-офицер, возвратился одновременно со мной. Он еще не дошел до края деревни, когда началась пальба. Мы вернулись к коням. В одинокой халупе обменялись впечатлениями, поужинали хлебом с салом, офицер написал и отправил донесение, и мы вышли опять посмотреть, нельзя ли что-нибудь устроить. Но, увы! — ночной ветер в клочья изодрал тучи, круглая, красноватая луна опустилась над неприятельскими позициями и слепила нам глаза. Нас было видно как на ладони, мы не видели ничего. Мы готовы были плакать с досады и, назло судьбе, все-таки поползли в сторону неприятеля. Луна могла же опять скрыться или мог же нам встретиться какой-нибудь шальной разведчик! Однако ничего этого не случилось, нас только обстреляли, и мы уползли обратно, проклиная лунные эффекты и осторожность немцев. Все же добытые нами сведения пригодились, нас благодарили, и я получил за эту ночь Георгиевский крест.
За разведку в ночь с 20 на 21 ноября Гумилёв получил свой первый Георгиевский крест. В приказе №181 по Уланскому полку от 13 января 1915 года было объявлено Двое суток прошли в непрерывных столкновениях с противником. Эскадрон Гумилёва постоянно участвовал в разведывательных разъездах. О серьезности боевых действий говорит то, что за бой 20 ноября командир Уланского полка Княжевич был представлен к Георгиевскому оружию. В представлениях сказано: «...20 ноября 1914 г. около 12 ч. дня командующий Гвардейским кавалерийским отрядом Свиты Его Величества ген.-майор Гилленшмидт приказал командиру Л.-Гв. Уланского Е. В. полка полковнику Княжевичу занять спешенными уланами позицию у шоссе к г. Петрокову, шагах в трехстах восточнее опушки леса, что между Белхатовым и Велеполе, с целью упорно задерживать дальнейшее наступление германцев, угрожавших Петрокову. В 3 ч. дня противник начал артиллерийскую подготовку, а около 4-х ч. дня под прикрытием сильного арт. огня повел энергичное наступление против улан и соседнего участка конногренадер. Со своего наблюдательного пункта впереди д. Гута я слышал сигналы на рожках и крики немецкой пехоты (во много раз сильнейшей гвардейской резервной дивизии), готовившейся атаковать. Вскоре завязался горячий бой, в течение которого был тяжело ранен командир 1 бригады ген.-майор Лопухин, и командование 1-й бригадой перешло к полковнику Княжевичу. Последний, несмотря на потери, подвергаясь серьезной личной опасности, удерживался до седьмого часа вечера, после чего в порядке отвел свою бригаду на 2-ю позицию у д. Мзурки, где прочно занял ряд хуторов намеченного наступления, которое было остановлено. Прислуга при пулеметах сильно пострадала, почему по приказанию полк. Княжевича уланы вынесли их на руках. Когда было приказано отходить, то он сам до последней минуты, оставаясь при арьергарде и находясь в большой опасности, своим примером спокойствия и распорядительности вселял в людях полную уверенность, почему отход совершился без суеты и без особых потерь в людях и имуществе (пулеметы были блестяще вынесены). Значение упорной обороны полковника Княжевича на Велепольской позиции выразилось в том, что благодаря ей мы успели твердо обосноваться на позициях Мзурки — Рокшицы, что отстаивали Петроков вплоть до 2 декабря, что мы не позволили противнику вклиниться в промежуток между двумя нашими армиями...» Во время этого боя несколько улан было убито, многие были ранены. О потерях в личном составе сказано в приказе по Уланскому полку №127 от 20.11.1914 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Поздно ночью мы отошли на бивак. . . . . . . . в большое имение.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . В комнатке садовника мне его жена вскипятила кварту молока, я поджарил в сале колбасу, и мой ужин разделили со мной мои гости: вольноопределяющийся, которому только что убитая под ним лошадь отдавила ногу, и вахмистр со свежей ссадиной на носу, его так поцарапала пуля. Мы уже закурили и мирно беседовали, когда случайно забредший к нам унтер сообщил, что от нашего эскадрона высылается разъезд. Я внимательно себя проэкзаменовал и увидел, что я выспался или, вернее, выдремался в снегу, что я сыт, согрелся и что нет основания мне не ехать. Правда, первый миг неприятно было выйти из теплой, уютной комнаты на холодный и пустынный двор, но это чувство сменилось бодрым оживлением, едва мы нырнули по невидной дороге во мрак, навстречу неизвестности и опасности.
Зимние окрестности Петрокова, район бивака в Мзурки
Разъезд был дальний, и поэтому офицер дал нам вздремнуть, часа три, на каком-то сеновале. Ничто так не освежает, как короткий сон, и наутро мы ехали уже совсем бодрые, освещаемые бледным, но все же милым солнцем. Нам было поручено наблюдать район версты в четыре и сообщать обо всем, что мы заметим. Местность была совершенно ровная, и перед нами как на ладони виднелись три деревни. Одна была занята нами, о двух других ничего не было известно. Держа винтовки в руках, мы осторожно въехали в ближайшую деревню, проехали ее до конца и, не обнаружив неприятеля, с чувством полного удовлетворения напились парного молока, вынесенного нам красивой словоохотливой старухой. Потом офицер, отозвав меня в сторону, сообщил, что хочет дать мне самостоятельное поручение ехать старшим над двумя дозорными в следующую деревню. Поручение пустяшное, но все-таки серьезное, если принять во внимание мою неопытность в искусстве войны, и главное — первое, в котором я мог проявить свою инициативу. Кто не знает, что во всяком деле начальные шаги приятнее всех остальных.
Я решил идти не лавой, то есть в ряд, на некотором расстоянии друг от друга, а цепочкой, то есть один за другим. Таким образом, я подвергал меньшей опасности людей и получал возможность скорее сообщить разъезду что-нибудь новое. Разъезд следовал за нами. Мы въехали в деревню и оттуда заметили большую колонну германцев, двигавшуюся верстах в двух от нас. Офицер остановился, чтобы написать донесение, я для очистки совести поехал дальше. Круто загибавшаяся дорога вела к мельнице. Я увидел около нее кучку спокойно стоявших жителей и, зная, что они всегда удирают, предвидя столкновение, в котором может достаться и им шальная пуля, рысью подъехал, чтобы расспросить о немцах. Но едва мы обменялись приветствиями, как они с искаженными лицами бросились врассыпную, и передо мной взвилось облачко пыли, а сзади послышался характерный треск винтовки. Я оглянулся.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . На той дороге, по которой я только что проехал, куча всадников и пеших в черных, жутко чужого цвета шинелях изумленно смотрела на меня. Очевидно, меня только что заметили. Они были шагах в тридцати.
Я понял, что на этот раз опасность действительно велика. Дорога к разъезду мне была отрезана, с двух других сторон двигались неприятельские колонны. Оставалось скакать прямо от немцев, но там далеко раскинулось вспаханное поле, по которому нельзя идти галопом, и я десять раз был бы подстрелен, прежде чем вышел бы из сферы огня. Я выбрал среднее и, огибая врага, помчался перед его фронтом к дороге, по которой ушел наш разъезд. Это была трудная минута моей жизни. Лошадь спотыкалась о мерзлые комья, пули свистели мимо ушей, взрывали землю передо мной и рядом со мной, одна оцарапала луку моего седла. Я не отрываясь смотрел на врагов. Мне были ясно видны их лица, растерянные в момент заряжания, сосредоточенные в момент выстрела. Невысокий пожилой офицер, странно вытянув руку, стрелял в меня из револьвера. Этот звук выделялся каким-то дискантом среди остальных. Два всадника выскочили, чтобы преградить мне дорогу. Я выхватил шашку, они замялись. Может быть, они просто побоялись, что их подстрелят их же товарищи.
Все это в ту минуту я запомнил лишь зрительной и слуховой памятью, осознал же это много позже. Тогда я только придерживал лошадь и бормотал молитву Богородице, тут же мною сочиненную и сразу забытую по миновании опасности.
Но вот и конец пахотному полю — и зачем только люди придумали земледелие?! — вот канава, которую я беру почти бессознательно, вот гладкая дорога, по которой я полным карьером догоняю свой разъезд. Позади него, не обращая внимания на пули, сдерживает свою лошадь офицер. Дождавшись меня, он тоже переходит в карьер и говорит со вздохом облегчения: «Ну, слава Богу! Было бы ужасно глупо, если б вас убили». Я вполне с ним согласился.
Остаток дня мы провели на крыше одиноко стоящей халупы, болтая и посматривая в бинокль. Германская колонна, которую мы заметили раньше, попала под шрапнель и повернула обратно. Зато разъезды шныряли по разным направлениям. Порой они сталкивались с нашими, и тогда до нас долетал звук выстрелов. Мы ели вареную картошку, по очереди курили одну и ту же трубку.
21 — 23 ноября немецкое наступление было приостановлено. 1 бригада с Уланским полком отошла к югу и встала на бивак в Кржижанове. В эти дни шла сильная перестрелка, постоянно высылались разведывательные разъезды для выяснения расположения противника. Один из таких разъездов описан в эпизоде "1" главы IV. Немецкое наступление было приостановлено. Надо было расследовать, какие пункты занял неприятель, где он окапывается, где попросту помещает заставы. Для этого высылался ряд разъездов, в состав одного из них вошел и я.
Сереньким утром мы затрусили по большой дороге. Навстречу нам тянулись целые обозы беженцев. Мужчины оглядывали нас с любопытством и надеждой, дети тянулись к нам, женщины, всхлипывая, причитали: «Ой, панычи, не езжайте туда, там вас забьют германи».
В одной деревне разъезд остановился. Мне с двумя солдатами предстояло проехать дальше и обнаружить неприятеля. Сейчас же за околицей окапывались наши пехотинцы, дальше тянулось поле, над которым рвались шрапнели, там на рассвете был бой и германцы отошли, — дальше чернел небольшой фольварк. Мы рысью направились к нему.
Вправо и влево почти на каждой квадратной сажени валялись трупы немцев. В одну минуту я насчитал их сорок, но их было много больше. Были и раненые. Они как-то внезапно начинали шевелиться, проползали несколько шагов и замирали опять. Один сидел у самого края дороги и, держась за голову, раскачивался и стонал. Мы хотели его подобрать, но решили сделать это на обратном пути.
До фольварка мы доскакали благополучно. Нас никто не обстрелял. Но сейчас же за фольварком услышали удары заступа о мерзлую землю и какой-то незнакомый говор. Мы спешились, и я, держа винтовку в руках, прокрался вперед, чтобы выглянуть из-за угла крайнего сарая. Передо мной возвышался небольшой пригорок, и на хребте его германцы рыли окопы. Видно было, как они останавливаются, чтобы потереть руки и закурить, слышен был сердитый голос унтера или офицера. Влево темнела роща, из-за которой неслась орудийная пальба. Это оттуда обстреливали поле, по которому я только что проехал. Я до сих пор не понимаю, почему германцы не выставили никакого пикета в самом фольварке. Впрочем, на войне бывают и не такие чудеса.
Я все выглядывал из-за угла сарая, сняв фуражку, чтобы меня приняли просто за любопытствующего «вольного», когда почувствовал сзади чье-то легкое прикосновение. Я быстро обернулся. Передо мной стояла неизвестно откуда появившаяся полька с изможденным, скорбным лицом. Она протягивала мне пригоршню мелких, сморщенных яблок: «Возьми, пан солдат, то есть добже, цукерно». Меня каждую минуту могли заметить, обстрелять; пули летели бы и в нее. Понятно, было невозможно отказаться от такого подарка.
Мы выбрались из фольварка. Шрапнель рвалась чаще и чаще и на самой дороге, так что мы решили скакать обратно поодиночке. Я надеялся подобрать раненого немца, но на моих глазах над ним низко, низко разорвался снаряд, и все было кончено.
В дальнейшем Гумилёв в «Записках кавалериста» строго соблюдал хронологическую последовательность, поэтому никаких перестановок больше не будет. Описанная в эпизоде "3" главы IV «сравнительно тихая» неделя — с 24 по 30 ноября 1914 года. В начале этой недели полк оставался на прежних позициях в районе Кржижанова. Но прежде, чем продолжить чтение «Записок кавалериста», пару слов об одном «затерявшемся» письме Гумилёва Ахматовой, недатированном, но написанном, почти наверняка, в эту «сравнительно тихую неделю» Вот это письмо. <Польша, конец ноября 1914> Дорогая моя Анечка, наконец могу написать тебе довольно связно. Сижу в польской избе перед столом на табурете, очень удобно и даже уютно. Вообще война мне очень напоминает мои абиссинские путешествия. Аналогия почти полная: недостаток экзотичности покрывается более сильными ощущеньями. Грустно только, что здесь инициатива не в моих руках, а ты знаешь, как я привык к этому. Однако и повиноваться мне не трудно, особенно при таком милом ближайшем начальстве, как у меня. Я познакомился со всеми офицерами своего эскадрона и часто бываю у них. Ca me pose parmi les soldats (Это меня выделяет среди солдат — франц. — С.Е.), хотя они и так относятся ко мне хорошо и уважительно. Если бы только почаще бои, я был бы вполне удовлетворен судьбой. А впереди еще такой блистательный день, как день вступления в Берлин! В том, что он наступит, сомневаются, кажется, только «вольные», то есть, не военные. Сообщенья главного штаба поражают своей сдержанностью и по ним трудно судить обо всех наших успехах. Австрийцев уже почти не считают за врагов, до такой степени они не воины, что касается германцев, то их кавалерия удирает перед нашей, наша артиллерия всегда заставляет замолчать их, наша пехота стреляет вдвое лучше и бесконечно сильнее в атаке, уже потому, что наш штык навинчен с начала боя и солдат стреляет с ним, а у германцев и австрийцев штык закрывает дуло и поэтому его надо надевать в последнюю минуту, что психологически невозможно. Я сказал, что в победе сомневаются только вольные, не отсюда ли такое озлобленье против немцев, такие потоки клеветы на них в газетах и журналах? Ни в Литве, ни в Польше я не слыхал о немецких зверствах, ни об одном убитом жителе, изнасилованной женщине. Скотину и хлеб они действительно забирают, но, во-первых, им же нужен провиант, а во-вторых, им надо лишить провианта нас; то же делаем и мы, и поэтому упреки им косвенно падают и на нас — а это несправедливо. Мы, входя в немецкий дом, говорим «gut» и даем сахар детям, они делают то же, приговаривая «карошь». Войско уважает врага, мне кажется, и газетчики могли бы поступать так же. А рождается рознь между армией и страной. И это не мое личное мненье, так думают офицеры и солдаты, исключенья редки и трудно объяснимы или, вернее, объясняются тем, что «немцеед» находился все время в глубоком тылу и начитался журналов и газет. Мы, наверно, скоро опять попадем в бой, и в самый интересный, с кавалерией. Так что вы не тревожьтесь, не получая от меня некоторое время писем, убить меня не убьют (ты ведь знаешь, что поэты — пророки), а писать будет некогда. Если будет можно, после боя я пришлю телеграмму, не пугайтесь, всякая телеграмма непременно успокоительная. Теперь про свои дела: я тебе послал несколько стихотворений, но их в «Войне» надо заменить, строфы 4-ю и 5-ю про дух следующими Тружеников, медленно идущих На полях, омоченных в крови, Подвиг сеющих и славу жнущих, Ныне, Господи, благослови. Как у тех, что гнутся над сохою, Как у тех, что молят и скорбят, Их сердца горят перед Тобою, Восковыми свечками горят. Но тому, о Господи, и силы... и т. д. Вот человек предполагает, а Бог располагает. Приходится дописывать письмо стоя и карандашом. Вот мой адрес: 102 полевая контора. Остальное все как прежде. Твой всегда Коля. Письмо это писалось параллельно с продолжением «Записок кавалериста», написанных также в «сравнительно тихую» неделю конца ноября 1914 года. В «Записках» упоминается «декабрь». Предполагаю, что подразумевался местный «новый стиль».
Костел в Одрживоле, окрестности Ново-Място, Пилица.

Усадебный дом в Уязде, где, возможно, был ночлег.

Станция Колюшки и местный костел — современный вид
.
Город Петроков, ныне польский город Петрков Трибунальский.
В правом углу — Петроков времен войны, в конце 1914 года.

Современный Белхатов, за бои и разведку вокруг которого Гумилёв получил свой первый Георгиевский крест
Мне, вольноопределяющемуся-охотнику одного из кавалерийских полков, работа нашей кавалерии представляется как ряд отдельных вполне законченных задач, за которыми следует отдых, полный самых фантастических мечтаний о будущем. Если пехотинцы - поденщики войны, выносящие на своих плечах всю ее тяжесть, то кавалеристы - это веселая странствующая артель, с песнями в несколько дней кончающая прежде длительную и трудную работу. Нет ни зависти, ни соревнования. "Вы - наши отцы, - говорит кавалерист пехотинцу, - за вами как за каменной стеной".
Помню, был свежий солнечный день, когда мы подходили к границе Восточной Пруссии. Я участвовал в разъезде, посланном, чтобы найти генерала М., к отряду которого мы должны были присоединиться. Он был на линии боя, но, где протянулась эта линия, мы точно не знали. Так же легко, как на своих, мы могли выехать на германцев. Уже совсем близко, словно большие кузнечные молоты, гремели германские пушки, и наши залпами ревели им в ответ. Где-то убедительно быстро на своем ребячьем и страшном языке пулемет лепетал непонятное.
Неприятельский аэроплан, как ястреб над спрятавшейся в траве перепелкою, постоял над нашим разъездом и стал медленно спускаться к югу. Я увидел в бинокль его черный крест.
Этот день навсегда останется священным в моей памяти. Я был дозорным и первый раз на войне почувствовал, как напрягается воля, прямо до физического ощущения какого-то окаменения, когда надо одному въезжать в лес, где, может быть, залегла неприятельская цепь, скакать по полю, вспаханному и поэтому исключающему возможность быстрого отступления, к движущейся колонне, чтобы узнать, не обстреляет ли она тебя. И в вечер этого дня, ясный, нежный вечер, я впервые услышал за редким перелеском нарастающий гул "ура", с которым был взят В. Огнезарная птица победы в этот день слегка коснулась своим огромным крылом и меня.
На другой день мы вошли в разрушенный город, от которого медленно отходили немцы, преследуемые нашим артиллерийским огнем. Хлюпая в черной липкой грязи, мы подошли к реке, границе между государствами, где стояли орудия. Оказалось, что преследовать врага в конном строю не имело смысла: он отступал перестроенным, останавливаясь за каждым прикрытием и каждую минуту готовый поворотить - совсем матерый, привыкший к опасным дракам волк. Надо было только нащупывать его, чтобы давать указания, где он. Для этого было довольно разъездов.
По трясущемуся наспех сделанному понтонному мосту наш взвод перешел реку.
Мы были в Германии.
Я часто думал с тех пор о глубокой разнице между завоевательным и оборонительным периодами войны. Конечно, и тот и другой необходимы лишь для того, чтобы сокрушить врага и завоевать право на прочный мир, но ведь на настроение отдельного воина действуют не только общие соображения, - каждый пустяк, случайно добытый стакан молока, косой луч солнца, освещающий группу деревьев, и свой собственный удачный выстрел порой радуют больше, чем известие о сражении, выигранном на другом фронте. Эти шоссейные дороги, разбегающиеся в разные стороны, эти расчищенные, как парки, рощи, эти каменные домики с красными черепичными крышами наполнили мою душу сладкой жаждой стремления вперед, и так близки показались мне мечты Ермака, Перовского и других представителей России, завоевывающей и торжествующей. Не это ли и дорога в Берлин, пышный город солдатской культуры, в который надлежит входить не с ученическим посохом в руках, а на коне и с винтовкой за плечами?
Мы пошли лавой, и я опять был дозорным. Проезжал мимо брошенных неприятелем окопов, где валялись сломанная винтовка, изодранные патронташи и целые груды патронов. Кое-где виднелись красные пятна, но они не вызывали того чувства неловкости, которое нас охватывает при виде крови в мирное время.
Передо мной на невысоком холме была ферма. Там мог скрываться неприятель, и я, сняв с плеча винтовку, осторожно приблизился к ней.
Старик, давно перешедший возраст ландштурмиста, робко смотрел на меня из окна. Я спросил его, где солдаты. Быстро, словно повторяя заученный урок, он ответил, что они прошли полчаса тому назад, и указал направление. Был он красноглазый, с небритым подбородком и корявыми руками. Наверно, такие во время нашего похода в Восточную Пруссию стреляли в наших солдат из монтекристо. Я не поверил ему и проехал дальше. Шагах в пятистах за фермой начинался лес, в который мне надо было въехать, но мое внимание привлекла куча соломы, в которой я инстинктом охотника угадывал что-то для меня интересное. В ней могли прятаться германцы. Если они вылезут прежде, чем я их замечу, они застрелят меня. Если я замечу их вылезающими, то - я их застрелю. Я стал объезжать солому чутко прислушиваясь и держа винтовку на весу. Лошадь фыркала, поводила ушами и слушалась неохотно. Я так был поглощен моим исследованием, что не сразу обратил внимание на редкую трескотню, раздававшуюся со стороны леса. Легкое облачко белой пыли, взвивавшееся шагах в пяти от меня, привлекло мое внимание. Но только когда, жалостно поя, пуля пролетела над моей головой, я понял, что меня обстреливают, и притом из лесу. Я обернулся на разъезд, чтобы узнать, что мне делать. Он карьером скакал обратно. Надо было уходить и мне. Моя лошадь сразу поднялась в галоп, и как последнее впечатление я запомнил крупную фигуру в черной шинели, с каской на голове, на четвереньках, с медвежьей ухваткой вылезавшую из соломы.
Пальба уже стихла, когда я присоединился к разъезду. Корнет был доволен. Он открыл неприятеля, не потеряв при этом ни одного человека. Через десять минут наша артиллерия примется за дело. А мне было только мучительно обидно, что какие-то люди стреляли по мне, бросили мне этим вызов, а я не принял его и повернул. Даже радость избавления от опасности нисколько не смягчала этой внезапно закипевшей жажды боя и мести. Теперь я понял, почему кавалеристы так мечтают об атаках. Налететь на людей, которые, запрятавшись в кустах и окопах, безопасно расстреливают издали видных всадников, заставить их бледнеть от все учащающегося топота копыт, от сверкания обнаженных шашек и грозного вида наклоненных пик, своей стремительностью легко опрокинуть, точно сдунуть, втрое сильнейшего противника, это - единственное оправдание всей жизни кавалериста.
На другой день испытал я и шрапнельный огонь. Наш эскадрон занимал В., который ожесточенно обстреливали германцы. Мы стояли на случай их атаки, которой так и не было. Только вплоть до вечера, все время протяжно и не без приятности, пела шрапнель, со стен сыпалась штукатурка да кое-где загорались дома. Мы входили в опустошенные квартиры и кипятили чай. Кто-то даже нашел в подвале насмерть перепуганного жителя, который с величайшей готовностью продал нам недавно зарезанного поросенка. Дом, в котором мы его съели, через полчаса после нашего ухода был продырявлен тяжелым снарядом. Так я научился не бояться артиллерийского огня.
Самое тяжелое для кавалериста на войне, это - ожидание. Он знает, что ему ничего не стоит зайти во фланг движущемуся противнику, даже оказаться у него в тылу, и что никто его не окружит, не отрежет путей к отступлению, что всегда окажется спасительная тропинка, по которой целая кавалерийская дивизия легким галопом уедет из-под самого носа одураченного врага.
Каждое утро, еще затемно, мы, путаясь среди канав и изгородей, выбирались на позицию и весь день проводили за каким-нибудь бугром, то прикрывая артиллерию, то просто поддерживая связь с неприятелем. Была глубокая осень, голубое холодное небо, на резко чернеющих ветках золотые обрывки парчи, но с моря дул пронзительный ветер, и мы с синими лицами, с покрасневшими веками плясали вокруг лошадей и засовывали под седла окоченелые пальцы. Странно, время тянулось совсем не так долго, как можно было предполагать. Иногда, чтобы согреться, шли взводом на взвод и, молча, целыми кучами барахтались на земле. Порой нас развлекали рвущиеся поблизости шрапнели, кое-кто робел, другие смеялись над ним и спорили, по нам или не по нам стреляют немцы. Настоящее томление наступало только тогда, когда уезжали квартирьеры на отведенный нам бивак, и мы ждали сумерек, чтобы последовать за ними.
О, низкие, душные халупы, где под кроватью кудахтают куры, а под столом поселился баран; о, чай! который можно пить только с сахаром вприкуску, но зато никак не меньше шести стаканов; о, свежая солома! расстеленная для спанья по всему полу - никогда ни о каком комфорте не мечтается с такой жадностью, как о вас! И безумно-дерзкие мечты, что на вопрос о молоке и яйцах вместо традиционного ответа: "Вшистко германи забрали", хозяйка поставит на стол крынку с густым налетом сливок и что на плите радостно зашипит большая яичница с салом! И горькие разочарования, когда приходится ночевать на сеновалах или на снопах немолоченого хлеба, с цепкими, колючими колосьями, дрожать от холода, вскакивать и сниматься с бивака по тревоге!
Предприняли мы однажды разведывательное наступление, перешли на другой берег реки Ш. и двинулись по равнине к далекому лесу. Наша цель была - заставить заговорить артиллерию, и та, действительно, заговорила. Глухой выстрел, протяжное завыванье, и шагах в ста от нас белеющим облачком лопнула шрапнель. Вторая разорвалась уже в пятидесяти шагах, третья - в двадцати. Было ясно, что какой-нибудь обер-лейтенант, сидя на крыше или на дереве, чтобы корректировать стрельбу, надрывается в телефонную трубку: "Правее, правее!"
Мы повернули и галопом стали уходить.
Новый снаряд разорвался прямо над нами, ранил двух лошадей и прострелил шинель моему соседу. Где рвались следующие, мы уже не видели. Мы скакали по тропинкам холеной рощи вдоль реки под прикрытием ее крутого берега. Германцы не догадались обстрелять брод, и мы без потерь оказались в безопасности. Даже раненых лошадей не пришлось пристреливать, их отправили на излечение.
На следующий день противник несколько отошел, и мы снова оказались на другом берегу, на этот раз в роли сторожевого охранения.
Трехэтажное кирпичное строение, нелепая помесь средневекового замка и современного доходного дома, было почти разрушено снарядами.
Мы приютились в нижнем этаже на изломанных креслах и кушетках. Сперва было решено не высовываться, чтобы не выдать своего присутствия. Мы смирно рассматривали тут же найденные немецкие книжки, писали домой письма на открытках с изображением Вильгельма.
Через несколько дней в одно прекрасное, даже не холодное утро свершилось долгожданное. Эскадронный командир собрал унтер-офицеров и прочел приказ о нашем наступлении по всему фронту. Наступать - всегда радость, но наступать по неприятельской земле, это - радость, удесятеренная гордостью, любопытством и каким-то непреложным ощущением победы. Люди молодцевато усаживаются в седлах. Лошади прибавляют шаг.
Время, когда от счастья спирается дыхание, время горящих глаз и безотчетных улыбок.
Справа по три, вытянувшись длинной змеею, мы пустились по белым обсаженным столетними деревьями дорогам Германии. Жители снимали шапки, женщины с торопливой угодливостью выносили молоко. Но их было мало, большинство бежало, боясь расплаты за преданные заставы, отравленных разведчиков.
Особенно мне запомнился важный старый господин, сидевший перед раскрытым окном большого помещичьего дома.
Он курил сигару, но его брови были нахмурены, пальцы нервно теребили седые усы, и в глазах читалось горестное изумление. Солдаты, проезжая мимо, робко на него взглядывали и шепотом обменивались впечатлениями: "Серьезный барин, наверно, генерал... ну и вредный, надо быть, когда ругается..."
Вот за лесом послышалась ружейная пальба - партия отсталых немецких разведчиков. Туда помчался эскадрон, и все смолкло. Вот над нами раз за разом разорвалось несколько шрапнелей. Мы рассыпались, но продолжали продвигаться вперед. Огонь прекратился. Видно было, что германцы отступают решительно и бесповоротно. Нигде не было заметно сигнальных пожаров, и крылья мельниц висели в том положении, которое им придал ветер, а не германский штаб. Поэтому мы были крайне удивлены, когда услыхали невдалеке частую, частую перестрелку, точно два больших отряда вступили между собой в бой. Мы поднялись на пригорок и увидали забавное зрелище. На рельсах узкоколейной железной дороги стоял горящий вагон, и из него и неслись эти звуки. Оказалось, он был наполнен патронами для винтовок, немцы в своем отступлении бросили его, а наши подожгли. Мы расхохотались, узнав, в чем дело, но отступающие враги, наверно, долго и напряженно ломали голову, кто это там храбро сражается с наступающими русскими.
Вскоре навстречу нам стали попадаться партии свежепойманных пленников.
Очень был забавен один прусский улан, все время удивлявшийся, как хорошо ездят наши кавалеристы. Он скакал, объезжая каждый куст, каждую канаву, при спусках замедляя аллюр, наши скакали напрямик и, конечно, легко его поймали. Кстати, многие наши жители уверяют, что германские кавалеристы не могут сами сесть на лошадь. Например, если в разъезде десять человек, то один сперва подсаживает девятерых, а потом сам садится с забора или пня. Конечно, это легенда, но легенда очень характерная. Я сам видел однажды, как вылетевший из седла германец бросился бежать, вместо того чтобы опять вскочить на лошадь.
Вечерело. Звезды кое-где уже прокололи легкую мглу, и мы, выставив сторожевое охраненье, отправились на ночлег. Биваком нам послужила обширная благоустроенная усадьба с сыроварнями, пасекой, образцовыми конюшнями, где стояли очень недурные кони. По двору ходили куры, гуси, в закрытых помещениях мычали коровы, не было только людей, совсем никого, даже скотницы, чтобы дать напиться привязанным животным. Но мы на это не сетовали. Офицеры заняли несколько парадных комнат в доме, нижним чинам досталось все остальное.
Я без труда отвоевал себе отдельную комнату, принадлежащую, судя по брошенным женским платьям, бульварным романам и слащавым открыткам, какой-нибудь экономке или камеристке, наколол дров, растопил печь и как был, в шинели, бросился на кровать и сразу заснул. Проснулся уже за полночь от леденящего холода. Печь моя потухла, окно открылось, и я пошел на кухню, мечтая погреться у пылающих углей.
И в довершение я получил очень ценный практический совет. Чтобы не озябнуть, никогда не ложиться в шинели, а только покрываться ею.
На другой день был дозорным. Отряд двигался по шоссе, я ехал полем, шагах в трехстах от него, причем мне вменялось в обязанность осматривать многочисленные фольварки и деревни, нет ли там немецких солдат или хоть ландштурмистов, то есть попросту мужчин от семнадцати до сорока трех лет. Это было довольно опасно, несколько сложно, но зато очень увлекательно. В первом же доме я встретил идиотического вида мальчишку, мать уверяла, что ему шестнадцать лет, но ему так же легко могло быть и восемнадцать, и даже двадцать. Все-таки я оставил его, а в следующем доме, когда я пил молоко, пуля впилась в дверной косяк вершка на два от моей головы.
В доме пастора я нашел лишь служанку-литвинку, говорящую по-польски; она объяснила мне, что хозяева бежали час тому назад, оставив на плите готовый завтрак, и очень уговаривала меня принять участие в его уничтожении. Вообще мне часто приходилось входить в совершенно безлюдные дома, где на плите кипел кофе, на столе лежало начатое вязанье, открытая книга; я вспомнил о девочке, зашедшей в дом медведей, и все ждал услышать грозное: "Кто съел мой суп? Кто лежал на моей кровати?"
Дики были развалины города Ш. Ни одной живой души. Моя лошадь пугливо вздрагивала, пробираясь по заваленным кирпичами улицам мимо зданий с вывороченными внутренностями, мимо стен с зияющими дырами, мимо труб, каждую минуту готовых обвалиться. На бесформенной груде обломков виднелась единственная уцелевшая вывеска "Ресторан". Какое счастье было вырваться опять в простор полей, увидеть деревья, услышать милый запах земли.
Вечером мы узнали, что наступление будет продолжаться, но наш полк переводят на другой фронт. Новизна всегда пленяет солдат... но, когда я посмотрел на звезды и вдохнул ночной ветер, мне вдруг стало очень грустно расставаться с небом, под которым я как-никак получил мое боевое крещенье.
Южная Польша - одно из красивейших мест России. Мы ехали верст восемьдесят от станции железной дороги до соприкосновения с неприятелем, и я успел вдоволь налюбоваться ею. Гор, утехи туристов, там нет, но на что равнинному жителю горы? Есть леса, есть воды, и этого довольно вполне.
Леса сосновые, саженые, и, проезжая по ним, вдруг видишь узкие, прямые, как стрелы, аллеи, полные зеленым сумраком с сияющим просветом вдали, - словно храмы ласковых и задумчивых богов древней, еще языческой Польши. Там водятся олени и косули, с куриной повадкой пробегают золотистые фазаны, в тихие ночи слышно, как чавкает и ломает кусты кабан.
Среди широких отмелей размытых берегов лениво извиваются реки; широкие, с узенькими между них перешейками, озера блестят и отражают небо, как зеркала из полированного металла; у старых мшистых мельниц тихие запруды с нежно журчащими струйками воды и каким-то розово-красным кустарником, странно напоминающим человеку его детство.
В таких местах, что бы ты ни делал - любил или воевал, - все представляется значительным и чудесным.
Это были дни больших сражений. С утра до поздней ночи мы слышали грохотанье пушек, развалины еще дымились, и то там, то сям кучки жителей зарывали трупы людей и лошадей. Я был назначен в летучую почту на станции К. Мимо нее уже проходили поезда, хотя чаще всего под обстрелом. Из жителей там остались только железнодорожные служащие; они встретили нас с изумительным радушием. Четыре машиниста спорили за честь приютить наш маленький отряд. Когда наконец один одержал верх, остальные явились к нему в гости и принялись обмениваться впечатлениями. Надо было видеть, как горели от восторга их глаза, когда они рассказывали, что вблизи их поезда рвалась шрапнель, в паровоз ударила нуля. Чувствовалось, что только недостаток инициативы помешал им записаться добровольцами. Мы расстались друзьями, обещали друг другу писать, но разве такие обещания когда-нибудь сдерживаются?
На другой день, среди милого безделья покойного бивака, когда читаешь желтые книжки Универсальной библиотеки, чистишь винтовку или попросту болтаешь с хорошенькими паненками, нам внезапно скомандовали седлать, и так же внезапно переменным аллюром мы сразу прошли верст пятьдесят. Мимо мелькали одно за другим сонные местечки, тихие и величественные усадьбы, на порогах домов старухи в наскоро наброшенных на голову платках вздыхали, бормоча: "Ой, Матка Бозка". И, выезжая временами на шоссе, мы слушали глухой, как морской прибой, стук бесчисленных копыт и догадывались, что впереди и позади нас идут другие кавалерийские части и что нам предстоит большое дело.
Ночь далеко перевалила за половину, когда мы стали на бивак. Утром нам пополнили запас патронов, и мы двинулись дальше. Местность была пустынная: какие-то буераки, низкорослые ели, холмы. Мы построились в боевую линию, назначили, кому спешиваться, кому быть коноводом, выслали вперед разъезды и стали ждать. Поднявшись на пригорок, скрытый деревьями, я видел перед собой пространство приблизительно с версту. По нему там и сям были рассеяны наши заставы. Они были так хорошо скрыты, что большинство я разглядел лишь тогда, когда, отстреливаясь, они стали уходить. Почти следом за ними показались германцы. В поле моего зрения попали три колонны, двигавшиеся шагах в пятистах друг от друга.
Они шли густыми толпами и пели. Это была не какая-нибудь определенная песня и даже не наше дружное "ура", а две или три ноты, чередующиеся со свирепой и угрюмой энергией. Я не сразу понял, что поющие - мертвецки пьяны. Так странно было слышать это пение, что я не замечал ни грохота наших орудий, ни ружейной пальбы, ни частого, дробного стука пулеметов. Дикое "а...а...а..." властно покорило мое сознание. Я видел только, как над самыми головами врагов взвиваются облачки шрапнелей, как падают передние ряды, как другие становятся на их место и продвигаются на несколько шагов, чтобы лечь и дать место следующим. Похоже было на разлив весенних вод, - те же медленность и неуклонность.
Но вот наступила и моя очередь вступить в бой. Послышалась команда: "Ложись... прицел восемьсот... эскадрон, пли", и я уже ни о чем не думал, а только стрелял и заряжал, стрелял и заряжал. Лишь где-то в глубине сознанья жила уверенность, что все будет как нужно, что в должный момент нам скомандуют идти в атаку или садиться на коней и тем или другим мы приблизим ослепительную радость последней победы.
Поздно ночью мы отошли на бивак... в большое имение.
В комнатке садовника мне его жена вскипятила кварту молока, я поджарил в сале колбасу, и мой ужин разделили со мной мои гости: вольноопределяющийся, которому только что убитая под ним лошадь отдавила ногу, и вахмистр со свежей ссадиной на носу, его так поцарапала пуля. Мы уже закурили и мирно беседовали, когда случайно забредший к нам унтер сообщил, что от нашего эскадрона высылается разъезд. Я внимательно себя проэкзаменовал и увидел, что я выспался или, вернее, выдремался в снегу, что я сыт, согрелся и что нет основания мне не ехать. Правда, первый миг неприятно было выйти из теплой, уютной комнаты на холодный и пустынный двор, но это чувство сменилось бодрым оживлением, едва мы нырнули по невидной дороге во мрак, навстречу неизвестности и опасности.
Разъезд был дальний, и поэтому офицер дал нам вздремнуть, часа три, на каком-то сеновале. Ничто так не освежает, как короткий сон, и наутро мы ехали уже совсем бодрые, освещаемые бледным, но все же милым солнцем. Нам было поручено наблюдать район версты в четыре и сообщать обо всем, что мы заметим. Местность была совершенно ровная, и перед нами как на ладони виднелись три деревни. Одна была занята нами, о двух других ничего не было известно.
Держа винтовки в руках, мы осторожно въехали в ближайшую деревню, проехали ее до конца и, не обнаружив неприятеля, с чувством полного удовлетворения напились парного молока, вынесенного нам красивой словоохотливой старухой. Потом офицер, отозвав меня в сторону, сообщил, что хочет дать мне самостоятельное поручение ехать старшим над двумя дозорными в следующую деревню. Поручение пустяшное, но все-таки серьезное, если принять во внимание мою неопытность в искусстве войны, и главное - первое, в котором я мог проявить свою инициативу. Кто не знает, что во всяком деле начальные шаги приятнее всех остальных.
Я решил идти не лавой, то есть в ряд, на некотором расстоянии друг от друга, а цепочкой, то есть один за другим. Таким образом, я подвергал меньшей опасности людей и получал возможность скорее сообщить разъезду что-нибудь новое. Разъезд следовал за нами. Мы въехали в деревню и оттуда заметили большую колонну германцев, двигавшуюся верстах в двух от нас. Офицер остановился, чтобы написать донесение, я для очистки совести поехал дальше. Круто загибавшаяся дорога вела к мельнице. Я увидел около нее кучку спокойно стоявших жителей и, зная, что они всегда удирают, предвидя столкновение, в котором может достаться и им шальная пуля, рысью подъехал, чтобы расспросить о немцах. Но едва мы обменялись приветствиями, как они с искаженными лицами бросились врассыпную, и передо мной взвилось облачко пыли, а сзади послышался характерный треск винтовки. Я оглянулся.
На той дороге, по которой я только что проехал, куча всадников и пеших в черных, жутко чужого цвета шинелях изумленно смотрела на меня. Очевидно, меня только что заметили. Они были шагах в тридцати.
Я понял, что на этот раз опасность действительно велика. Дорога к разъезду мне была отрезана, с двух других сторон двигались неприятельские колонны. Оставалось скакать прямо от немцев, но там далеко раскинулось вспаханное поле, по которому нельзя идти галопом, и я десять раз был бы подстрелен, прежде чем вышел бы из сферы огня. Я выбрал среднее и, огибая врага, помчался перед его фронтом к дороге, по которой ушел наш разъезд. Это была трудная минута моей жизни. Лошадь спотыкалась о мерзлые комья, пули свистели мимо ушей, взрывали землю передо мной и рядом со мной, одна оцарапала луку моего седла. Я не отрываясь смотрел на врагов. Мне были ясно видны их лица, растерянные в момент заряжания, сосредоточенные в момент выстрела. Невысокий пожилой офицер, странно вытянув руку, стрелял в меня из револьвера. Этот звук выделялся каким-то дискантом среди остальных. Два всадника выскочили, чтобы преградить мне дорогу. Я выхватил шашку, они замялись. Может быть, они просто побоялись, что их подстрелят их же товарищи.
Все это в ту минуту я запомнил лишь зрительной и слуховой памятью, осознал же это много позже. Тогда я только придерживал лошадь и бормотал молитву Богородице, тут же мною сочиненную и сразу забытую по миновании опасности.
Но вот и конец пахотному полю - и зачем только люди придумали земледелие?! - вот канава, которую я беру почти бессознательно, вот гладкая дорога, по которой я полным карьером догоняю свой разъезд. Позади него, не обращая внимания на пули, сдерживает свою лошадь офицер. Дождавшись меня, он тоже переходит в карьер и говорит со вздохом облегчения: "Ну, слава Богу! Было бы ужасно глупо, если б вас убили". Я вполне с ним согласился.
Остаток дня мы провели на крыше одиноко стоящей халупы, болтая и посматривая в бинокль. Германская колонна, которую мы заметили раньше, попала под шрапнель и повернула обратно. Зато разъезды шныряли по разным направлениям. Порой они сталкивались с нашими, и тогда до нас долетал звук выстрелов. Мы ели вареную картошку, по очереди курили одну и ту же трубку.
Немецкое наступление было приостановлено. Надо было расследовать, какие пункты занял неприятель, где он окапывается, где попросту помещает заставы. Для этого высылался ряд разъездов, в состав одного из них вошел и я.
Сереньким утром мы затрусили по большой дороге. Навстречу нам тянулись целые обозы беженцев. Мужчины оглядывали нас с любопытством и надеждой, дети тянулись к нам, женщины, всхлипывая, причитали: "Ой, панычи, не езжайте туда, там вас забьют германи".
В одной деревне разъезд остановился. Мне с двумя солдатами предстояло проехать дальше и обнаружить неприятеля. Сейчас же за околицей окапывались наши пехотинцы, дальше тянулось поле, над которым рвались шрапнели, там на рассвете был бой и германцы отошли, - дальше чернел небольшой фольварк. Мы рысью направились к нему.
Вправо и влево почти на каждой квадратной сажени валялись трупы немцев. В одну минуту я насчитал их сорок, но их было много больше. Были и раненые. Они как-то внезапно начинали шевелиться, проползали несколько шагов и замирали опять. Один сидел у самого края дороги и, держась за голову, раскачивался и стонал. Мы хотели его подобрать, но решили сделать это на обратном пути.
До фольварка мы доскакали благополучно. Нас никто не обстрелял. Но сейчас же за фольварком услышали удары заступа о мерзлую землю и какой-то незнакомый говор. Мы спешились, и я, держа винтовку в руках, прокрался вперед, чтобы выглянуть из-за угла крайнего сарая. Передо мной возвышался небольшой пригорок, и на хребте его германцы рыли окопы. Видно было, как они останавливаются, чтобы потереть руки и закурить, слышен был сердитый голос унтера или офицера. Влево темнела роща, из-за которой неслась орудийная пальба. Это оттуда обстреливали поле, по которому я только что проехал. Я до сих пор не понимаю, почему германцы не выставили никакого пикета в самом фольварке. Впрочем, на войне бывают и не такие чудеса.
Я все выглядывал из-за угла сарая, сняв фуражку, чтобы меня приняли просто за любопытствующего "вольного", когда почувствовал сзади чье-то легкое прикосновение. Я быстро обернулся. Передо мной стояла неизвестно откуда появившаяся полька с изможденным, скорбным лицом. Она протягивала мне пригоршню мелких, сморщенных яблок: "Возьми, пан солдат, то есть добже, цукерно". Меня каждую минуту могли заметить, обстрелять; пули летели бы и в нее. Понятно, было невозможно отказаться от такого подарка.
Мы выбрались из фольварка. Шрапнель рвалась чаще и чаще и на самой дороге, так что мы решили скакать обратно поодиночке. Я надеялся подобрать раненого немца, но на моих глазах над ним низко, низко разорвался снаряд, и все было кончено.
На другой день уже смеркалось и все разбрелись по сеновалам и клетушкам большой усадьбы, когда внезапно было велено собраться нашему взводу. Вызвали охотников идти в ночную пешую разведку, очень опасную, как настаивал офицер. Человек десять порасторопнее вышли сразу; остальные, потоптавшись, объявили, что они тоже хотят идти и только стыдились напрашиваться. Тогда решили, что взводный назначит охотников. И таким образом были выбраны восемь человек, опять-таки побойчее. В числе их оказался и я.
Мы на конях доехали до гусарского сторожевого охранения. За деревьями спешились, оставили троих коноводами и пошли расспросить гусар, как обстоят дела. Усатый вахмистр, запрятанный в воронке от тяжелого снаряда, рассказал, что из ближайшей деревни несколько раз выходили неприятельские разведчики, крались полем к нашим позициям и он уже два раза стрелял. Мы решили пробраться в эту деревню и, если возможно, забрать какого-нибудь разведчика живьем.
Светила полная луна, но, на наше счастье, она то и дело скрывалась за тучами. Выждав одно из таких затмений, мы, согнувшись, гуськом побежали к деревне, но не по дороге, а в канаве, идущей вдоль нее. У околицы остановились. Отряд должен был оставаться здесь и ждать, двум охотникам предлагалось пройти по деревне и посмотреть, что делается за нею. Пошли я и один запасной унтер-офицер, прежде вежливый служитель в каком-то казенном учреждении, теперь один из храбрейших солдат считающегося боевым эскадрона. Он по одной стороне улицы, я - по другой. По свистку мы должны были возвращаться назад.
Вот я совсем один посреди молчаливой, словно притаившейся деревни, из-за угла одного дома перебегаю к углу следующего. Шагах в пятнадцати вбок мелькает крадущаяся фигура. Это мой товарищ. Из самолюбия я стараюсь идти впереди его, но слишком торопиться все-таки страшно. Мне вспоминается игра в палочку-воровочку, в которую я всегда играю летом в деревне. Там то же затаенное дыхание, то же веселое сознание опасности, то же инстинктивное умение подкрадываться и прятаться. И почти забываешь, что здесь вместо смеющихся глаз хорошенькой девушки, товарища по игре, можешь встретить лишь острый и холодный направленный на тебя штык. Вот и конец деревни. Становится чуть светлее, это луна пробивается сквозь неплотный край тучи; я вижу перед собой невысокие, темные бугорки окопов и сразу запоминаю, словно фотографирую в памяти, их длину и направление. Ведь за этим я сюда и пришел. В ту же минуту передо мной вырисовывается человеческая фигура. Она вглядывается в меня и тихонько свистит каким-то особенным, очевидно условным, свистом. Это враг, столкновение неизбежно.
Во мне лишь одна мысль, живая и могучая, как страсть, как бешенство, как экстаз: я его или он меня! Он нерешительно поднимает винтовку, я знаю, что мне стрелять нельзя, врагов много поблизости, и бросаюсь вперед с опущенным штыком. Мгновение, и передо мной никого. Может быть, враг присел на землю, может быть, отскочил. Я останавливаюсь и начинаю всматриваться. Что-то чернеет. Я приближаюсь и трогаю штыком, - нет, это - бревно. Что-то чернеет опять. Вдруг сбоку от меня раздается необычайно громкий выстрел, и пуля воет обидно близко перед моим лицом. Я оборачиваюсь, в моем распоряжении несколько секунд, пока враг будет менять патрон в магазине винтовки. Но уже из окопов слышится противное харканье выстрелов - тра, тра, тра, - и пули свистят, ноют, визжат.
Я побежал к своему отряду. Особенного страха я не испытывал, я знал, что ночная стрельба недействительна, и мне только хотелось проделать все как можно правильнее и лучше. Поэтому, когда луна осветила поле, я бросился ничком и так отполз в тень домов, там уже идти было почти безопасно. Мой товарищ, унтер-офицер, возвратился одновременно со мной. Он еще не дошел до края деревни, когда началась пальба. Мы вернулись к коням. В одинокой халупе обменялись впечатлениями, поужинали хлебом с салом, офицер написал и отправил донесение, и мы вышли опять посмотреть, нельзя ли что-нибудь устроить. Но, увы! - ночной ветер в клочья изодрал тучи, круглая, красноватая луна опустилась над неприятельскими позициями и слепила нам глаза. Нас было видно как на ладони, мы не видели ничего. Мы готовы были плакать с досады и, назло судьбе, все-таки поползли в сторону неприятеля. Луна могла же опять скрыться или мог же нам встретиться какой-нибудь шальной разведчик! Однако ничего этого не случилось, нас только обстреляли, и мы уползли обратно, проклиная лунные эффекты и осторожность немцев. Все же добытые нами сведения пригодились, нас благодарили, и я получил за эту ночь Георгиевский крест.
Следующая неделя выдалась сравнительно тихая. Мы седлали еще в темноте, и по дороге к позиции я любовался каждый день одной и той же мудрой и яркой гибелью утренней звезды на фоне акварельно-нежного рассвета. Днем мы лежали на опушке большого соснового леса и слушали отдаленную пушечную стрельбу. Слегка пригревало бледное солнце, земля была густо устлана мягкими странно пахнущими иглами. Как всегда зимою, я томился по жизни летней природы, и так сладко было, совсем близко вглядываясь в кору деревьев, замечать в ее грубых складках каких-то проворных червячков и микроскопических мушек. Они куда-то спешили, что-то делали, несмотря на то что на дворе стоял декабрь. Жизнь теплилась в лесу, как внутри черной, почти холодной головешки теплится робкий тлеющий огонек. Глядя на нее, я всем существом радостно чувствовал, что сюда опять вернутся большие диковинные птицы и птицы маленькие, но с хрустальными, серебряными и малиновыми голосами, распустятся душно пахнущие цветы, мир вдоволь нальется бурной красотой для торжественного празднования колдовской и священной Ивановой ночи.
Иногда мы оставались в лесу на всю ночь. Тогда, лежа на спине, я часами смотрел на бесчисленные ясные от мороза звезды и забавлялся, соединяя их в воображении золотыми нитями. Сперва это был ряд геометрических чертежей, похожий на развернутый свиток Кабалы. Потом я начинал различать, как на затканном золотом ковре, различные эмблемы, мечи, кресты, чаши в не понятных для меня, но полных нечеловеческого смысла сочетаниях. Наконец явственно вырисовывались небесные звери. Я видел, как Большая Медведица, опустив морду, принюхивается к чьему-то следу, как Скорпион шевелит хвостом, ища, кого ему ужалить. На мгновенье меня охватывал невыразимый страх, что они посмотрят вниз и заметят там нашу землю. Ведь тогда она сразу обратится в безобразный кусок матово-белого льда и помчится вне всяких орбит, заражая своим ужасом другие миры. Тут я обыкновенно шепотом просил у соседа махорки, свертывал цигарку и с наслаждением выкуривал ее в руках - курить иначе значило выдать неприятелю наше расположение.
В конце недели нас ждала радость. Нас отвели в резерв армии, и полковой священник совершил богослужение. Идти на него не принуждали, но во всем полку не было ни одного человека, который бы не пошел. На открытом поле тысяча человек выстроились стройным четырехугольником, в центре его священник в золотой ризе говорил вечные и сладкие слова, служа молебен. Было похоже на полевые молебны о дожде в глухих, далеких русских деревнях. То же необъятное небо вместо купола, те же простые и родные, сосредоточенные лица. Мы хорошо помолились в тот день.
Было решено выровнять фронт, отойдя верст на тридцать, и кавалерия должна была прикрывать этот отход. Поздно вечером мы приблизились к позиции, и тотчас же со стороны неприятеля на нас опустился и медленно застыл свет прожектора, как взгляд высокомерного человека. Мы отъехали, он, скользя по земле и по деревьям, последовал за нами. Тогда мы галопом описали петли и стали за деревню, а он еще долго тыкался туда и сюда, безнадежно отыскивая нас.
Мой взвод был отправлен к штабу казачьей дивизии, чтобы служить связью между ним и нашей дивизией. Лев Толстой в "Войне и мире" посмеивается над штабными и отдает предпочтение строевым офицерам. Но я не видел ни одного штаба, который уходил бы раньше, чем снаряды начинали рваться над его помещением. Казачий штаб расположился в большом местечке Р. Жители бежали еще накануне, обоз ушел, пехота тоже, но мы сидели больше суток, слушая медленно надвигающуюся стрельбу, - это казаки задерживали неприятельские цепи. Рослый и широкоплечий полковник каждую минуту подбегал к телефону и весело кричал в трубку: "Гак... отлично... задержитесь еще немного... все идет хорошо..." И от этих слов по всем фольваркам, канавам и перелескам, занятым казаками, разливались уверенность и спокойствие, столь необходимые в бою. Молодой начальник дивизии, носитель одной из самых громких фамилий России, по временам выходил на крыльцо послушать пулеметы и улыбался тому, что все идет так, как нужно.
Мы, уланы, беседовали со степенными бородатыми казаками, проявляя при этом ту изысканную любезность, с которой относятся друг к другу кавалеристы разных частей.
К обеду до нас дошел слух, что пять человек нашего эскадрона попали в плен. К вечеру я уже видел одного из этих пленных, остальные высыпались на сеновале. Вот что с ними случилось. Их было шестеро в сторожевом охранении. Двое стояли на часах, четверо сидели в халупе. Ночь была темная и ветреная, враги подкрались к часовому и опрокинули его. Подчасок дал выстрел и бросился к коням, его тоже опрокинули. Сразу человек пятьдесят ворвались во двор и принялись палить в окна дома, где находился наш пикет. Один из наших выскочил и, работая штыком, прорвался к лесу, остальные последовали за ним, но передний упал, запнувшись на пороге, на него попадали и его товарищи. Неприятели, это были австрийцы, обезоружили их и под конвоем тоже пяти человек отправили в Штаб. Десять человек оказались одни, без карты, в полной темноте, среди путаницы дорог и тропинок.
По дороге австрийский унтер-офицер на ломаном русском языке все расспрашивал наших, где "кози", то есть казаки. Наши с досадой отмалчивались и наконец объявили, что "кози" именно там, куда их ведут, в стороне неприятельских позиций. Это произвело чрезвычайный эффект. Австрийцы остановились и принялись о чем-то оживленно спорить. Ясно было, что они не знали дороги. Тогда наш унтер-офицер потянул за рукав австрийского и ободрительно сказал: "Ничего, пойдем, я знаю, куда идти". Пошли, медленно загибая в сторону русских позиций.
В белесых сумерках утра среди деревьев мелькнули серые кони - гусарский разъезд. "Вот и кози!" - воскликнул наш унтер, выхватывая у австрийца винтовку. Его товарищи обезоружили остальных. Гусары немало смеялись, когда вооруженные австрийскими винтовками уланы подошли к ним, конвоируя своих только что захваченных пленных. Опять пошли в штаб, но теперь уже русский. По дороге встретился казак. "Ну-ка, дядя, покажи себя", - попросили наши. Тот надвинул на глаза папаху, всклокочил пятерней бороду, взвизгнул и пустил коня вскачь. Долго после этого пришлось ободрять и успокаивать австрийцев.
На следующий день штаб казачьей дивизии и мы с ним отошли версты за четыре, так что нам были видны только фабричные трубы местечка Р. Меня послали с донесением в штаб нашей дивизии. Дорога лежала через Р., но к ней уже подходили германцы. Я все-таки сунулся, вдруг удастся проскочить. Едущие мне навстречу офицеры последних казачьих отрядов останавливали меня вопросом - вольноопределяющийся, куда? - и, узнав, с сомнением покачивали головой. За стеною крайнего дома стоял десяток спешенных казаков с винтовками наготове. "Не проедете, - сказали они, - вон уже где палят". Только я выдвинулся, как защелкали выстрелы, запрыгали пули. По главной улице двигались навстречу мне толпы германцев, в переулках слышался шум других. Я поворотил, за мной, сделав несколько залпов, последовали и казаки.
На дороге артиллерийский полковник, уже останавливавший меня, спросил: "Ну что, не проехали?" - "Никак нет, там уже неприятель". - "Вы его сами видели?" - "Так точно, сам". Он повернулся к своим ординарцам: "Пальба из всех орудий по местечку". Я поехал дальше.
Однако мне все-таки надо было пробраться в штаб. Разглядывая старую карту этого уезда, случайно оказавшуюся у меня, советуясь с товарищем - с донесением всегда посылают двоих - и расспрашивая местных жителей, я кружным путем через леса и топи приближался к назначенной мне деревне. Двигаться приходилось по фронту наступающего противника, так что не было ничего удивительного в том, что при выезде из какой-то деревушки, где мы только что, не слезая с седел, напились молока, нам под прямым углом перерезал путь неприятельский разъезд. Он, очевидно, принял нас за дозорных, потому что вместо того, чтобы атаковать нас в конном строю, начал быстро спешиваться для стрельбы. Их было восемь человек, и мы, свернув за дома, стали уходить. Когда стрельба стихла, я обернулся и увидел за собой на вершине холма скачущих всадников - нас преследовали; они поняли, что нас только двое.
В это время сбоку опять послышались выстрелы, и прямо на нас карьером вылетели три казака - двое молодых, скуластых парней и один бородач. Мы столкнулись и придержали коней. "Что там у вас?" - спросил я бородача. "Пешие разведчики, с полсотни. А у вас?" - "Восемь конных". Он посмотрел на меня, я на него, и мы поняли друг друга. Несколько секунд помолчали. "Ну, поедем, что ли!" - вдруг словно нехотя сказал он, а у самого так и зажглись глаза. Скуластые парни, глядевшие на него с тревогой, довольно тряхнули головой и сразу стали заворачивать коней. Едва мы поднялись на только что оставленный нами холм, как увидели врагов, спускавшихся с противоположного холма. Мой слух обжег не то визг, не то свист, одновременно напоминающий моторный гудок и шипенье большой змеи, передо мной мелькнули спины рванувшихся казаков, и я сам бросил поводья, бешено заработал шпорами, только высшим напряжением воли вспомнив, что надо обнажить шашку. Должно быть, у нас был очень решительный вид, потому что немцы без всякого колебания пустились наутек. Гнали они отчаянно, и расстояние между нами почти не уменьшалось. Тогда бородатый казак вложил в ножны шашку, поднял винтовку, выстрелил, промахнулся, выстрелил опять, и один из немцев поднял обе руки, закачался и, как подброшенный, вылетел из седла. Через минуту мы уже неслись мимо него.
Но всему бывает конец! Немцы свернули круто влево, и навстречу нам посыпались пули. Мы наскочили на неприятельскую цепь. Однако казаки повернули не раньше, чем поймали беспорядочно носившуюся лошадь убитого немца. Они гонялись за ней, не обращая внимания на пули, словно в своей родной степи. "Батурину пригодится, - говорили они, - у него вчера убили доброго коня". Мы расстались за бугром, дружески пожав друг другу руки.
Штаб свой я нашел лишь часов через пять и не в деревне, а посреди лесной поляны на низких пнях и сваленных стволах деревьев. Он тоже отошел уже под огнем неприятеля.
К штабу казачьей дивизии я вернулся в полночь. Поел холодной курицы и лег спать, как вдруг засуетились, послышался приказ седлать, и мы снялись с бивака по тревоге. Была беспросветная темь. Заборы и канавы вырисовывались лишь тогда, когда лошадь натыкалась на них или проваливалась. Спросонок я даже не разбирал направления. Когда ветви больно хлестали по лицу, знал, что едем по лесу, когда у самых ног плескалась вода, знал, что переходим вброд реки. Наконец остановились у какого-то большого дома. Коней поставили во дворе, сами вошли в сени, зажгли огарки... и отшатнулись, услыша громовой голос толстого старого ксендза, вышедшего нам навстречу в одном нижнем белье и с медным подсвечником в руке. "Что это такое, - кричал он, - мне и ночью не дают покою! Я не выспался, я еще хочу спать!"
Мы пробормотали робкие извинения, но он прыгнул вперед и схватил за рукав старшего из офицеров. "Сюда, сюда, вот столовая, вот гостиная, пусть ваши солдаты принесут соломы. Юзя, Зося, подушки панам, да достаньте чистые наволочки". Когда я проснулся, было уже светло. Штаб в соседней комнате занимался делом, принимал донесения и рассылал приказания, а передо мной бушевал хозяин: "Вставайте скорее, кофе простынет, все уже давно напились!" Я умылся и сел за кофе. Ксендз сидел против меня и сурово меня допрашивал. "Вы вольноопределяющийся?" - "Доброволец". - "Чем прежде занимались?" - "Был писателем". - "Настоящим?" - "Об этом я не могу судить. Все-таки печатался в газетах и журналах, издавал книги". - "Теперь пишете какие-нибудь записки?" - "Пишу". Его брови раздвинулись, голос сделался мягким и почти просительным: "Так уж, пожалуйста, напишите обо мне, как я здесь живу, как вы со мной познакомились". Я искренно обещал ему это. "Да нет, вы забудете. Юзя, Зося, карандаш и бумагу!" И он записал мне название уезда и деревни, свое имя и фамилию.
Но разве что-нибудь держится за обшлагом рукава, куда кавалеристы обыкновенно прячут разные записки, деловые, любовные и просто так? Через три дня я уже потерял все, и эту в том числе. И вот теперь я лишен возможности отблагодарить достопочтенного патера (не знаю его фамилии) из деревни (забыл ее название) не за подушку в чистой наволочке, не за кофе с вкусными пышками, но за его глубокую ласковость под суровыми манерами и за то, что он так ярко напомнил мне тех удивительных стариков-отшельников, которые так же ссорятся и дружатся с ночными путниками в давно забытых, но некогда мною любимых романах Вальтера Скотта.
Фронт был выровнен. Кое-где пехота отбивала противника, вообразившего, что он наступает по собственной инициативе, кавалерия занималась усиленной разведкой. Нашему разъезду было поручено наблюдать за одним из таких боев и сообщать об его развитии и случайностях в штаб. Мы нагнали пехоту в лесу. Маленькие серые солдатики со своими огромными сумками шли вразброд, теряясь на фоне кустарника и сосновых стволов. Одни на ходу закусывали, другие курили, молодой прапорщик весело помахивал тростью. Это был испытанный, славный полк, который в бой шел, как на обычную полевую работу; и чувствовалось, что в нужную минуту все окажутся на своих местах без путаницы, без суматохи и каждый отлично знает, где он должен быть и что делать.
Батальонный командир верхом на лохматой казачьей лошадке поздоровался с нашим офицером и попросил его узнать, есть ли перед деревней, на которую он наступал, неприятельские окопы. Мы были очень рады помочь пехоте, и сейчас же был выслан унтер-офицерский разъезд, который повел я. Местность была удивительно удобная для кавалерии, холмы, из-за которых можно было неожиданно показаться, и овраги, по которым легко было уходить.
Едва я поднялся на первый пригорок, щелкнул выстрел - это был только неприятельский секрет. Я взял вправо и проехал дальше. В бинокль было видно все поле до деревни, оно было пусто. Я послал одного человека с донесением, а сам с остальными тремя соблазнился пугнуть обстрелявший нас секрет. Для того, чтобы точнее узнать, где он залег, я снова высунулся из кустов, услышал еще выстрел и тогда, наметив небольшой пригорок, помчался прямо на него, стараясь оставаться невидимым со стороны деревни. Мы доскакали до пригорка - никого. Неужели я ошибся? Нет, вот один из моих людей, спешившись, подобрал новенькую австрийскую винтовку, другой заметил свеженарубленные ветви, на которых только что лежал австрийский секрет. Мы поднялись на холм и увидели троих бегущих во всю прыть людей. Видимо, их смертельно перепугала наша неожиданная конная атака, потому что они не стреляли и даже не оборачивались. Преследовать их было невозможно, нас обстреляли бы из деревни, кроме того, наша пехота уже вышла из лесу и нам нельзя было торчать перед ее фронтом. Мы вернулись к разъезду и, рассевшись на крыше и развесистых вязах старой мельницы, стали наблюдать за боем.
Дивное зрелище - наступление нашей пехоты. Казалось, серое поле ожило, начало морщиться, выбрасывая из своих недр вооруженных людей на обреченную деревню. Куда ни обращался взгляд, он везде видел серые фигуры, бегущие, ползущие, лежащие. Сосчитать их было невозможно. Не верилось, что это были отдельные люди, скорее это был цельный организм, существо бесконечно сильнее и страшнее динотериумов и плезиозавров. И для этого существа возрождался величественный ужас космических переворотов и катастроф. Как гул землетрясений, грохотали орудийные залпы и несмолкаемый треск винтовок, как болиды, летали гранаты и рвалась шрапнель. Действительно, по слову поэта, нас призвали всеблагие, как собеседников на пир, и мы были зрителями их высоких зрелищ. И я, и изящный поручик с браслетом на руках, и вежливый унтер, и рябой запасной, бывший дворник, мы оказались свидетелями сцены, больше всего напоминавшей третичный период земли. Я думал, что только в романах Уэллса бывают такие парадоксы.
Но мы не оказались на высоте положения и совсем не были похожи на олимпийцев. Когда бой разгорался, мы тревожились за фланг нашей пехоты, громко радовались ее ловким маневрам, в минуту затишья выпрашивали друг у друга папиросы, делились хлебом и салом, разыскивали сена для лошадей. Впрочем, может быть, такое поведение было единственным достойным при данных обстоятельствах.
Мы въехали в деревню, когда на другом конце ее еще кипел бой. Наша пехота двигалась от халупы до халупы все время стреляя, иногда идя в штыки. Стреляли и австрийцы, но от штыкового боя уклонялись, спасаясь под защиту пулеметов. Мы вошли в крайнюю халупу, где собирались раненые. Их было человек десять. Они были заняты работой. Раненные в руку притаскивали жерди, доски и веревки, раненные в ногу быстро устраивали из всего этого носилки для своего товарища с насквозь простреленной грудью. Хмурый австриец, с горлом, проткнутым штыком, сидел в углу, кашлял и беспрерывно курил цигарки, которые ему вертели наши солдаты. Когда носилки были готовы, он встал, уцепился за одну из ручек и знаками - говорить он не мог - показал, что хочет помогать их нести. С ним не стали спорить и только скрутили ему сразу две цигарки. Мы возвращались обратно немного разочарованные. Наша надежда в конном строю преследовать бегущего неприятеля не оправдывалась. Австрийцы засели в окопах за деревней, и бой на этом прикончился.
Эти дни нам много пришлось работать вместе с пехотой, и мы вполне оценили ее непоколебимую стойкость и способность к бешеному порыву. В продолжение двух дней я был свидетелем боя... Маленький отряд кавалерии, посланный для связи с пехотой, остановился в доме лесника, в двух верстах от места боя, а бой кипел по обе стороны реки. К ней приходилось спускаться с совершенно открытого отлогого бугра, и немецкая артиллерия была так богата снарядами, что обстреливала каждого одиночного всадника. Ночью было не лучше. Деревня пылала, и от зарева было светло, как в самые ясные, лунные ночи, когда так четко рисуются силуэты. Проскакав этот опасный бугор, мы сразу попадали в сферу ружейного огня, а для всадника, представляющего собой отличную цель, это очень неудобно. Приходилось жаться за халупами, которые уже начинали загораться.
Пехота переправилась через реку на понтонах, в другом месте то же делали немцы. Две наши роты были окружены на той стороне, они штыками пробились к воде и вплавь присоединились к своему полку. Немцы взгромоздили на костел пулеметы, которые приносили нам много вреда. Небольшая партия наших разведчиков по крышам и сквозь окна домов подобралась к костелу, ворвалась в него, скинула вниз пулеметы и продержалась до прихода подкрепления. В центре кипел непрерывный штыковой бой, и немецкая артиллерия засыпала снарядами и наших и своих. На окраинах, где не было такой суматохи, происходили сцены прямо чудесного геройства. Немцы отбили два наших пулемета и торжественно повезли их к себе. Один наш унтер-офицер, пулеметчик, схватил две ручные бомбы и бросился им наперерез. Подбежал шагов на двадцать и крикнул: "Везите пулеметы обратно, или убью и вас и себя". Несколько немцев вскинули к плечу винтовки. Тогда он бросил бомбу, которая убила троих и поранила его самого. С окровавленным лицом он подскочил к врагам вплотную и, потрясая оставшейся бомбой, повторил свой приказ. На этот раз немцы послушались и повезли пулеметы в нашу сторону. А он шел за ними, выкрикивая бессвязные ругательства и колотя немцев бомбой по спинам. Я встретил это странное шествие уже в пределах нашего расположения. Герой не позволял никому прикоснуться ни к пулеметам, ни к пленным, он вел их к своему командиру. Как в бреду, не глядя ни на кого, рассказывал он о своем подвиге: "Вижу, пулеметы тащат. Ну, думаю, сам пропаду, пулеметы верну. Одну бомбу бросил, другая вот. Пригодится. Жалко же пулеметы, - и сейчас же опять принимался кричать на смертельно бледных немцев: - Ну, ну, иди, не задерживайся!"
Всегда приятно переезжать на новый фронт. На больших станциях пополняешь свои запасы шоколада, папирос, книг, гадаешь, куда приедешь, - тайна следования сохраняется строго, - мечтаешь об особых преимуществах новой местности, о фруктах, о паненках, о просторных домах, отдыхаешь, валяясь на соломе просторных теплушек. Высадившись, удивляешься пейзажам, знакомишься с характером жителей, - главное, что надо узнать, есть ли у них сало и продают ли они молоко, - жадно запоминаешь слова еще не слышанного языка. Это - целый спорт, скорее других научиться болтать по-польски, малороссийски или литовски.
Но возвращаться на старый фронт еще приятнее. Потому что неверно представляют себе солдат бездомными, они привыкают и к сараю, где несколько раз переночевали, и к ласковой хозяйке, и к могиле товарища. Мы только что возвратились на насиженные места и упивались воспоминаниями.
Нашему полку была дана задача найти врага. Мы, отступая, наносили германцам такие удары, что они местами отстали на целый переход, а местами даже сами отступили. Теперь фронт был выровнен, отступление кончилось, надо было, говоря технически, войти в связь с противником.
Наш разъезд, один из цепи разъездов, весело поскакал по размытой весенней дороге, под блестящим, словно только что вымытым, весенним солнцем. Три недели мы не слышали свиста пуль, музыки, к которой привыкаешь, как к вину, - кони отъелись, отдохнули, и так радостно было снова пытать судьбу между красных сосен и невысоких холмов. Справа и слева уже слышались выстрелы: это наши разъезды натыкались на немецкие заставы. Перед нами пока все было спокойно: порхали птицы, в деревне лаяла собака. Однако продвигаться вперед было слишком опасно. У нас оставались открытыми оба фланга. Разъезд остановился, и мне (только что произведенному в унтер-офицеры) с четырьмя солдатами было поручено осмотреть черневший вправо лесок. Это был мой первый самостоятельный разъезд, - жаль было бы его не использовать. Мы рассыпались лавой и шагом въехали в лес. Заряженные винтовки лежали поперек седел, шашки были на вершок выдвинуты из ножен, напряженный взгляд каждую минуту принимал за притаившихся людей большие коряги и пни, ветер в сучьях шумел совсем как человеческий разговор, и к тому же на немецком языке. Мы проехали один овраг, другой, - никого. Вдруг на самой опушке, уже за пределами назначенного мне района, я заметил домик, не то очень бедный хутор, не то сторожку лесника.
Если немцы вообще были поблизости, они засели там. У меня быстро появился план карьером обогнуть дом и в случае опасности уходить опять в лес. Я расставил людей по опушке, велев поддержать меня огнем. Мое возбуждение передалось лошади. Едва я тронул ее шпорами, как она помчалась, расстилаясь по земле и в то же время чутко слушаясь каждого движения поводьев.
Первое, что я заметил, заскакав за домик, были три немца, сидевшие на земле в самых непринужденных позах; потом несколько оседланных лошадей; потом еще одного немца, застывшего верхом на заборе, он, очевидно, собрался его перелезть, когда заметил меня. Я выстрелил наудачу и помчался дальше. Мои люди, едва я к ним присоединился, тоже дали залп. Но в ответ, по нам раздался другой, гораздо более внушительный, винтовок в двадцать по крайней мере. Пули засвистали над головой, защелкали о стволы деревьев. Нам больше нечего было делать в лесу, и мы ушли. Когда мы поднялись па холм уже за лесом, мы увидели наших немцев, поодиночке скачущих в противоположную сторону. Они выбили нас из лесу, мы выбили их из фольварка. Но так как их было вчетверо больше, чем нас, наша победа была блистательнее.
В два дня мы настолько осветили положение дела на фронте, что пехота могла начать наступление. Мы были у нее на фланге и поочередно занимали сторожевое охранение. Погода сильно испортилась. Дул сильный ветер, и стояли морозы, а я не знаю ничего тяжелее соединения этих двух климатических явлений. Особенно плохо было в ту ночь, когда очередь дошла до нашего эскадрона. Еще не доехав до места, я весь посинел от холода и принялся интриговать, чтобы меня не посылали на пост, а оставили на главной заставе в распоряжении ротмистра. Мне это удалось. В просторной халупе с плотно занавешенными окнами и растопленной печью было светло, тепло и уютно. Но едва я получил стакан чаю и принялся сладострастно греть об него свои пальцы, ротмистр сказал: "Кажется, между вторым и третьим постом слишком большое расстояние. Гумилев, поезжайте посмотрите, так ли это, и, если понадобится, выставьте промежуточный пост". Я отставил мой чай и вышел. Мне показалось, что я окунулся в ледяные чернила, так было темно и холодно.
Ощупью я добрался до моего коня, взял проводника, солдата, уже бывавшего на постах, и выехал со двора. В поле было чуть-чуть светлее. По дороге мой спутник сообщил мне, что какой-то немецкий разъезд еще днем проскочил сквозь линию сторожевого охранения и теперь путается поблизости, стараясь прорваться назад. Только он кончил свой рассказ, как перед нами в темноте послышался стук копыт и обрисовалась фигура всадника. "Кто идет?" - крикнул я и прибавил рыси. Незнакомец молча повернул коня и помчался от нас. Мы за ним, выхватив шашки и предвкушая удовольствие привести пленного. Гнаться легче, чем убегать. Не задумываешься о дороге, скачешь по следам... Я уже почти настиг беглеца, когда он вдруг сдержал лошадь, и я увидел на нем вместо каски обыкновенную фуражку. Это был наш улан, проезжавший от поста к посту; и он так же, как мы его, принял нас за немцев. Я посетил пост, восемь полузамерзших людей на вершине поросшего лесом холма, и выставил промежуточный пост в лощине. Когда я снова вошел в халупу и принялся за новый стакан горячего чаю, я подумал, что это - счастливейший миг моей жизни. Но, увы, он длился недолго. Три раза в эту проклятую ночь я должен был объезжать посты, и вдобавок меня обстреляли, - заблудший ли немецкий разъезд или так, пешие разведчики, не знаю. И каждый раз так не хотелось выходить из светлой халупы, от горячего чая и разговоров о Петрограде и петроградских знакомых на холод, в темноту, под выстрелы. Ночь была беспокойная. У нас убили человека и двух лошадей. Поэтому все вздохнули свободнее, когда рассвело и можно было отвести посты назад.
Всей заставой с ротмистром во главе мы поехали навстречу возвращающимся постам. Я был впереди, показывая дорогу, и уже почти съехался с последним из них, когда ехавший мне навстречу поручик открыл рот, чтобы что-то сказать, как из лесу раздался залп, потом отдельные выстрелы, застучал пулемет - и все это по нам. Мы повернули под прямым углом и бросились за первый бугор. Раздалась команда: "К пешему строю... выходи..." - и мы залегли по гребню, зорко наблюдая за опушкой леса. Вот за кустами мелькнула кучка людей в синевато-серых шинелях. Мы дали залп. Несколько человек упало. Опять затрещал пулемет, загремели выстрелы, и германцы поползли на нас. Сторожевое охранение развертывалось в целый бой. То там, то сям из лесу выдвигалась согнутая фигура в каске, быстро скользила между кочками до первого прикрытия и оттуда, поджидая товарищей, открывала огонь. Может быть, уже целая рота придвинулась к нам шагов на триста. Нам грозила атака, и мы решили пойти в контратаку в конном строю. Но в это время галопом примчались из резерва два других наших эскадрона и, спешившись, вступили в бой. Немцы были отброшены нашим огнем обратно в лес. Во фланг им поставили наш пулемет, и он, наверно, наделал им много беды. Но они тоже усиливались. Их стрельба увеличивалась, как разгорающийся огонь. Наши цепи пошли было в наступление, но их пришлось вернуть.
Тогда, словно богословы из "Вия", вступавшие в бой для решительного удара, заговорила наша батарея. Торопливо рявкали орудия, шрапнель с визгом и ревом неслась над нашими головами и разрывалась в лесу. Хорошо стреляют русские артиллеристы. Через двадцать минут, когда мы снова пошли в наступление, мы нашли только несколько десятков убитых и раненых, кучу брошенных винтовок и один совсем целый пулемет. Я часто замечал, что германцы, так стойко выносящие ружейный огонь, быстро теряются от огня орудийного.
Наша пехота где-то наступала, и немцы перед нами отходили, выравнивая фронт. Иногда и мы на них напирали, чтобы ускорить очищение какого-нибудь важного для нас фольварка или деревни, но чаще приходилось просто отмечать, куда они отошли. Время было нетрудное и веселое. Каждый день разъезды, каждый вечер спокойный бивак - отступавшие немцы не осмеливались тревожить нас по ночам. Однажды даже тот разъезд, в котором я участвовал, собрался на свой риск и страх выбить немцев из одного фольварка. В военном совете приняли участие все унтер-офицеры. Разведка открыла удобные подступы. Какой-то старик, у которого немцы увели корову и даже стащили сапоги с ног, - он был теперь обут в рваные галоши, - брался провести нас болотом во фланг. Мы все обдумали, рассчитали, и это было бы образцовое сражение, если бы немцы не ушли после первого же выстрела. Очевидно, у них была не застава, а просто наблюдательный пост. Другой раз, проезжая лесом, мы увидели пять невероятно грязных фигур с винтовками, выходящих из густой заросли. Это были наши пе хотинцы, больше месяца тому назад отбившиеся от своей части и оказавшиеся в пределах неприятельского расположения. Они не потерялись: нашли чащу погуще, вырыли там яму, накрыли хворостом, с помощью последней спички развели чуть тлеющий огонек, чтобы нагревать свое жилище и растаивать в котелках снег, и стали жить Робинзонами, ожидая русского наступления. Ночью поодиночке ходили в ближайшую деревню, где в то время стоял какой-то германский штаб. Жители давали им хлеба, печеной картошки, иногда сала. Однажды один не вернулся. Они целый день провели голодные, ожидая, что пропавший под пыткой выдаст их убежище и вот-вот придут враги. Однако ничего не случилось: германцы ли попались совестливые, или наш солдатик оказался героем, - неизвестно. Мы были первыми русскими, которых они увидели. Прежде всего они попросили табаку. До сих пор они курили растертую кору и жаловались, что она слишком обжигает рот и горло.
Вообще такие случаи не редкость: один казак божился мне, что играл с немцами в двадцать одно. Он был один в деревне, когда туда зашел сильный неприятельский разъезд. Удирать было поздно. Он быстро расседлал свою лошадь, запрятал седло в солому, сам накинул на себя взятый у хозяина зипун, и вошедшие немцы застали его усердно молотящим в сарае хлеб. В его дворе был оставлен пост из трех человек. Казаку захотелось поближе посмотреть на германцев. Он вошел в халупу и нашел их играющими в карты. Он присоединился к играющим и за час выиграл около десяти рублей. Потом, когда пост сняли и разъезд ушел, он вернулся к своим. Я его спросил, как ему понравились германцы. "Да ничего, - сказал он, - только играют плохо, кричат, ругаются, все отжилить думают. Когда я выиграл, хотели меня бить, да я не дался". Как это он не дался - мне не пришлось узнать: мы оба торопились.
Последний разъезд был особенно богат приключениями. Мы долго ехали лесом, поворачивая с тропинки на тропинку, объехали большое озеро и совсем не были уверены, что у нас в тылу не осталось какой-нибудь неприятельской заставы. Лес кончался кустарниками, дальше была деревня. Мы выдвинули дозоры справа и слева, сами стали наблюдать за деревней. Есть там немцы или нет, - вот вопрос. Понемногу мы стали выдвигаться из кустов - все спокойно. Деревня была уже не более чем в двухстах шагах, как оттуда без шапки выскочил житель и бросился к нам, крича: "Германи, германи, их много... бегите!" И сейчас же раздался залп. Житель упал и перевернулся несколько раз, мы вернулись в лес. Теперь все поле перед деревней закишело германцами. Их было не меньше сотни. Надо было уходить, но наши дозоры еще не вернулись. С левого фланга тоже слышалась стрельба, и вдруг в тылу у нас раздалось несколько выстрелов. Это было хуже всего! Мы решили, что мы окружены, и обнажили шашки, чтобы, как только подъедут дозорные, пробиваться в конном строю. Но, к счастью, мы скоро догадались, что в тылу никого нет - это просто рвутся разрывные пули, ударяясь в стволы деревьев. Дозорные справа уже вернулись. Они задержались, потому что хотели подобрать предупредившего нас жителя, но увидали, что он убит - прострелен тремя пулями в голову и в спину. Наконец прискакал и левый дозорный. Он приложил руку к козырьку и молодцевато отрапортовал офицеру: "Ваше сиятельство, германец наступает слева... и я ранен". На его бедре виднелась кровь. "Можешь сидеть в седле?" - спросил офицер. "Так точно, пока могу!" - "А где же другой дозорный?" - "Не могу знать, кажется, он упал". Офицер повернулся ко мне: "Гумилев, поезжайте посмотрите, что с ним?" Я отдал честь и поехал прямо на выстрелы.
Собственно говоря, я подвергался не большей опасности, чем оставаясь на месте: лес был густой, немцы стреляли не видя нас, и пули летели всюду; самое большее я мог наскочить на их передовых. Все это я знал, но ехать все-таки было очень неприятно. Выстрелы становились все слышнее, до меня доносились даже крики врагов. Каждую минуту я ожидал увидеть изуродованный разрывной пулей труп несчастного дозорного и, может быть, таким же изуродованным остаться рядом с ним - частые разъезды уже расшатали мои нервы. Поэтому легко представить мою ярость, когда я увидел пропавшего улана на корточках, преспокойно копошащегося около убитой лошади.
"Что ты здесь делаешь?" - "Лошадь убили... седло снимаю". - "Скорей иди, такой-сякой, тебя весь разъезд под пулями дожидается". - "Сейчас, сейчас, я вот только белье достану. - Он подошел ко мне, держа в руках небольшой сверток. - Вот, подержите, пока я вспрыгну на вашу лошадь, пешком не уйти, немец близко". Мы поскакали, провожаемые пулями, и он все время вздыхал у меня за спиной: "Эх, чай позабыл! Эх, жалость, хлеб остался!"
Обратно доехали без приключений. Раненый после перевязки вернулся в строй, надеясь получить Георгия. Но мы все часто вспоминали убитого за нас поляка и, когда заняли эту местность, поставили на месте его смерти большой деревянный крест.
Поздно ночью или рано утром - во всяком случае, было еще совсем темно - в окно халупы, где я спал, постучали: седлать по тревоге. Первым моим движением было натянуть сапоги, вторым - пристегнуть шашку и надеть фуражку. Мой арихмед - в кавалерии вестовых называют арихмедами, очевидно испорченное риткнехт, - уже седлал наших коней. Я вышел на двор и прислушался. Ни ружейной перестрелки, ни непременного спутника ночных тревог - стука пулемета, ничего не было слышно. Озабоченный вахмистр, пробегая, крикнул мне, что немцев только что выбили из местечка С. и они поспешно отступают по шоссе; мы их будем преследовать. От радости я проделал несколько пируэтов, что меня, кстати, и согрело.
Но, увы, преследование вышло не совсем таким, как я думал. Едва мы вышли на шоссе, нас остановили и заставили ждать час - еще не собрались полки, действовавшие совместно с нами. Затем продвинулись верст на пять и снова остановились. Начала действовать наша артиллерия. Как мы сердились, что она нам загораживает дорогу. Только позже мы узнали, что наш начальник дивизии придумал хитроумный план - вместо обычного преследования и захвата нескольких отсталых повозок врезываться клином в линию отходящего неприятеля и тем вынуждать его к более поспешному отступлению. Пленные потом говорили, что мы наделали немцам много вреда и заставили их откатиться верст на тридцать дальше, чем предполагалось, потому что в отступающей армии легко сбить с толку не только солдат, но даже высшее начальство. Но тогда мы этого не знали и продвигались медленно, негодуя на самих себя за эту медленность.
От передовых разъездов к нам приводили пленных. Были они хмурые, видимо потрясенные своим отступлением. Кажется, они думали, что идут прямо на Петроград. Однако честь отдавали отчетливо не только офицерам, но и унтер-офицерам и, отвечая, вытягивались в струнку.
В одной халупе, около которой мы стояли, хозяин с наслаждением, хотя, очевидно, в двадцатый раз, рассказывал про немцев: один и тот же немецкий фельдфебель останавливался у него и при наступлении и при отступлении. Первый раз он все время бахвалился победой и повторял: "Русс капут, русс капут!" Второй раз он явился в одном сапоге, стащил недостающий прямо с ноги хозяина и на его вопрос: "Ну что же, русс капут?" - ответил с чисто немецкой добросовестностью: "Не, не, не! Не капут!"
Уже поздно вечером мы свернули с шоссе, чтобы ехать на бивак в назначенный нам район. Вперед, как всегда, отправились квартирьеры. Как мы мечтали о биваке! Еще днем мы узнали, что жители сумели попрятать масло и сало и на радостях охотно продавали русским солдатам. Вдруг впереди послышалась стрельба. Что такое? Это не по аэроплану, - аэропланы ночью не летают, это, очевидно, неприятель. Мы осторожно въехали в назначенную нам деревню, а прежде въезжали с песнями, спешились, и вдруг из темноты к нам бросилась какая-то фигура в невероятно грязных лохмотьях. В ней мы узнали одного из наших квартирьеров. Ему дали хлебнуть мадеры, и он, немного успокоившись, сообщил нам следующее: с версту от деревни расположена большая барская усадьба. Квартирьеры спокойно въехали в нее и уже завели разговоры с управляющим об овсе и сараях, когда грянул залп. Немцы, стреляя, выскакивали из дома, высовывались в окна, подбегали к лошадям. Наши бросились к воротам, ворота были уже захлопнуты. Тогда оставшиеся в живых, кое-кто уже попадал, оставили лошадей и побежали в сад. Рассказчик наткнулся на каменную стену в сажень вышиной, с верхушкой, усыпанной битым стеклом. Когда он почти влез на нее, его за ногу ухватил немец. Свободной ногой, обутой в тяжелый сапог, да со шпорой вдобавок, он ударил врага прямо в лицо, тот упал, как сноп. Соскочив на ту сторону, ободранный, расшибшийся улан потерял направление и побежал прямо перед собой. Он был в самом центре неприятельского расположения. Мимо него проезжала кавалерия, пехота устраивалась на ночь. Его спасла только темнота и обычное во время отступления замешательство, следствие нашего ловкого маневра, о котором я писал выше. Он был, по его собственному признанию, как пьяный и понял свое положение, только когда, подойдя к костру, увидел около него человек двадцать немцев. Один из них даже обратился к нему с каким-то вопросом. Тогда он повернулся, пошел в обратном направлении и, таким образом, наткнулся на нас.
Выслушав этот рассказ, мы призадумались. О сне не могло быть и речи, да к тому же лучшая часть нашего бивака была занята немцами. Положение осложнялось еще тем, что в деревню вслед за нами тоже на бивак въехала наша артиллерия. Гнать ее назад, в поле, мы не могли, да и не имели права. Ни один рыцарь так не беспокоится о судьбе своей дамы, как кавалерист о безопасности артиллерии, находящейся под его прикрытием. То, что он может каждую минуту ускакать, заставляет его оставаться на своем посту до конца.
У нас оставалась слабая надежда, что в именье перед нами был только небольшой немецкий разъезд. Мы спешились и пошли на него цепью. Но нас встретил такой сильный ружейный и пулеметный огонь, какой могли развить по крайней мере несколько рот пехоты. Тогда мы залегли перед деревней, чтобы не пропускать хоть разведчиков, могущих обнаружить нашу артиллерию.
Лежать было скучно, холодно и страшно. Немцы, обозленные своим отступлением, поминутно стреляли в нашу сторону, а ведь известно, что шальные пули - самые опасные. Перед рассветом все стихло, а когда на рассвете наш разъезд вошел в усадьбу, там не было никого. За ночь почти все квартирьеры вернулись. Не хватало трех, двое, очевидно, попали в плен, а труп третьего был найден на дворе усадьбы. Бедняга, он только что прибыл на позиции из запасного полка и все говорил, что будет убит. Был он красивый, стройный, отличный наездник. Его револьвер валялся около него, а на теле, кроме огнестрельной, было несколько штыковых ран. Видно было, что он долго защищался, пока не был приколот. Мир праху твоему, милый товарищ! Все из нас, кто мог, пришли на твои похороны!
В этот день наш эскадрон был головным эскадроном колонны и наш взвод - передовым разъездом. Я всю ночь не спал, но так велик был подъем наступления, что я чувствовал себя совсем бодрым. Я думаю, что на заре человечества люди так же жили нервами, творили много и умирали рано. Мне с трудом верится, чтобы человек, который каждый день обедает и каждую ночь спит, мог вносить что-нибудь в сокровищницу культуры духа. Только пост и бдение, даже если они невольные, пробуждают в человеке особые, дремавшие прежде силы.
Наш путь лежал через именье, где накануне обстреляли наших квартирьеров. Там офицер, начальник другого разъезда, допрашивал о вчерашнем управляющего, рыжего, с бегающими глазами, неизвестной национальности. Управляющий складывал руки ладошками и клялся, что не знает, как и когда у него очутились немцы, офицер горячился и напирал на него своим конем. Наш командир разрешил вопрос, сказав допрашивающему: "Ну его к черту, - в штабе разберут. Поедем дальше!" Дальше мы осмотрели лес; в нем никого не оказалось, поднялись на бугор, и дозорные донесли, что в фольварке напротив неприятель. Фольварков в конном строю атаковать не приходится: перестреляют; мы спешились и только что хотели начать перебежку, как услышали частую пальбу. Фольварк уже был атакован раньше нас подоспевшим гусарским разъездом. Наше вмешательство было бы нетактичным, нам оставалось лишь наблюдать за боем и жалеть, что мы опоздали.
Бой длился недолго. Гусары бойко делали перебежку и уже вошли в фольварк. Часть немцев сдалась, часть бежала, их ловили в кустах. Гусар, детина огромного роста, конвоировавший человек десять робко жавшихся пленных, увидел нас и взмолился к нашему офицеру: "Ваше благородие, примите пленных, а я назад побегу, там еще немцы есть". Офицер согласился. "И винтовки сохраните, ваше благородие, чтобы никто не растащил", - просил гусар. Ему обещали, и это потому, что в мелких кавалерийских стычках сохраняется средневековый обычай, что оружие побежденного принадлежит его победителю.
Вскоре нам привели еще пленных, потом еще и еще. Всего в этом фольварке забрали шестьдесят семь человек настоящих пруссаков, действительной службы вдобавок, а забирающих было не больше двадцати.
Когда путь был расчищен, мы двинулись дальше. В ближайшей деревне нас встретили старообрядцы, колонисты. Мы были первыми русскими, которых они увидели после полуторамесячного германского плена. Старики пытались целовать наши руки, женщины выносили крынки молока, яйца, хлеб и с негодованием отказывались от денег, белобрысые ребятишки глазели на нас с таким интересом, с каким вряд ли глазели на немцев. И приятнее всего было то, что все говорили на чисто русском языке, какого мы давно не слышали.
Мы спросили, давно ли были немцы. Оказалось, что всего полчаса тому назад ушел немецкий обоз и его можно было бы догнать. Но едва мы решили сделать это, как к нам подскакал посланный от нашей колонны с приказанием остановиться. Мы стали упрашивать офицера притвориться, что он не слышал этого приказания, но в это время примчался второй посланный, чтобы подтвердить категорическое приказание ни в каком случае не двигаться дальше.
Пришлось покориться. Мы нарубили шашками еловых ветвей и, улегшись на них, принялись ждать, когда закипит чай в котелках. Скоро к нам подтянулась и вся колонна, а с нею пленные, которых было уже около девятисот человек. И вдруг над этим сборищем всей дивизии, когда все обменивались впечатлениями и делились хлебом и табаком, вдруг раздался характерный вой шрапнели, и неразорвавшийся снаряд грохнулся прямо среди нас. Послышалась команда: "По коням! Садись", и как осенью стая дроздов вдруг срывается с густых ветвей рябины и летит, шумя и щебеча, так помчались и мы, больше всего боясь оторваться от своей части. А шрапнель все неслась и неслась. На наше счастье, почти ни один снаряд не разорвался (и немецкие заводы подчас работают скверно), но они летели так низко, что прямо-таки прорезали наши ряды. Несколько минут мы скакали через довольно большое озеро, лед трещал и расходился звездами, и я думаю, у всех была лишь одна молитва, чтобы он не подломился.
Когда мы проскакали озеро, стрельба стихла. Мы построили взводы и вернулись обратно. Там нас ожидал эскадрон, которому было поручено стеречь пленных. Оказывается, он так и не двинулся с места, боясь, что пленные разбегутся, и справедливо рассчитав, что стрелять будут по большей массе скорее, чем по меньшей. Мы стали считать потери - их не оказалось. Был убит только один пленный и легко поранена лошадь. Однако нам приходилось призадуматься. Ведь нас обстреливали с фланга. А если у нас с фланга оказалась неприятельская артиллерия, то, значит, мешок, в который мы попали, был очень глубок. У нас был шанс, что немцы не сумеют использовать его, потому что им надо отступать под давлением пехоты. Во всяком случае, надо было узнать, есть ли для нас отход, и если да, то закрепить его за собой. Для этого были посланы разъезды, с одним из них поехал и я.
Ночь была темная, и дорога лишь смутно белела в чаще леса. Кругом было неспокойно. Шарахались лошади без всадников, далеко была слышна перестрелка, в кустах кто-то стонал, но нам было не до того, чтобы его подбирать. Неприятная вещь - ночная разведка в лесу. Так и кажется, что из-за каждого дерева на тебя направлен и сейчас ударит широкий штык. Совсем неожиданно и сразу разрушив тревожность ожидания, послышался окрик: "Wer ist da?" - и раздалось несколько выстрелов. Моя винтовка была у меня в руках, я выстрелил не целясь, все равно ничего не было видно, то же сделали мои товарищи. Потом мы повернули и отскакали сажен двадцать назад.
"Все ли тут?" - спросил я. Послышались голоса: "Я тут"; "Я тоже тут, остальные не знаю". Я сделал перекличку, - оказались все. Тогда мы стали обдумывать, что нам делать. Правда, нас обстреляли, но это легко могла оказаться не застава, а просто партия отсталых пехотинцев, которые теперь уже бегут сломя голову, спасаясь от нас. В этом предположении меня укрепляло еще то, что я слышал треск сучьев по лесу: посты не стали бы так шуметь.
Мы повернули и поехали по старому направлению. На том месте, где у нас была перестрелка, моя лошадь начала храпеть и жаться в сторону от дороги. Я соскочил и, пройдя несколько шагов, наткнулся на лежащее тело. Блеснув электрическим фонариком, я заметил расщепленную пулей каску под залитым кровью лицом, а дальше - синевато-серую шинель. Все было тихо. Мы оказались правы в своем предположении.
Мы проехали еще верст пять, как нам было указано, и, вернувшись, доложили, что дорога свободна. Тогда нас поставили на бивак, но какой это был бивак! Лошадей не расседлывали, отпустили только подпруги, люди спали в шинелях и сапогах. А наутро разъезды донесли, что германцы отступили и у нас на флангах наша пехота.
Третий день наступления начался смутно. Впереди все время слышалась перестрелка, колонны то и дело останавливались, повсюду посылались разъезды. И поэтому особенно радостно нам было увидеть выходящую из леса пехоту, которой мы не встречали уже несколько дней. Оказалось, что мы, идя с севера, соединились с войсками, наступавшими с юга. Бесчисленные серые роты появлялись одна за другой, чтобы через несколько минут расплыться среди перелесков и бугров. И их присутствие доказывало, что погоня кончилась, что враг останавливается и подходит бой.
Наш разъезд должен был разведать путь для одной из наступающих рот и потом охранять ее фланг. По дороге мы встретились с драгунским разъездом, которому была дана почти та же задача, что и нам. Драгунский офицер был в разодранном сапоге - след немецкой пики - он накануне ходил в атаку. Впрочем, это было единственное повреждение, полученное нашими, а немцев порубили человек восемь. Мы быстро установили положение противника, то есть ткнулись туда и сюда и были обстреляны, а потом спокойно поехали на фланг, подумывая о вареной картошке и чае.
Но едва мы выехали из леска, едва наш дозорный поднялся на бугор, из-за противоположного бугра грянул выстрел. Мы вернулись в лес, все было тихо. Дозорный опять показался из-за бугра, опять раздался выстрел, на этот раз пуля оцарапала ухо лошади. Мы спешились, вышли на опушку и стали наблюдать. Понемногу из-за холма начала показываться германская каска, затем фигура всадника - в бинокль я разглядел большие светлые усы. "Вот он, вот он, черт с рогом", - шептали солдаты. Но офицер ждал, чтобы германцев показалось больше, что пользы стрелять по одному. Мы брали его на прицел, разглядывали в бинокль, гадали об его общественном положении.
Между тем приехал улан, оставленный для связи с пехотой, доложил, что она отходит. Офицер сам поехал к ней, а нам предоставил поступать с немцами по собственному усмотрению. Оставшись одни, мы прицелились кто с колена, кто положив винтовку на сучья, и я скомандовал: "Взвод, пли!" В тот же миг немец скрылся, очевидно, упал за бугор. Больше никто не показывался. Через пять минут я послал двух улан посмотреть, убит ли он, и вдруг мы увидели целый немецкий эскадрон, приближающийся к нам под прикрытием бугров. Тут уже без всякой команды поднялась ружейная трескотня. Люди выскакивали на бугор, откуда было лучше видно, ложились и стреляли безостановочно. Странно, нам даже в голову не приходило, что немцы могут пойти в атаку.
И действительно, они повернули и врассыпную бросились назад. Мы провожали их огнем и, когда они поднимались на возвышенности, давали правильные залпы. Радостно было смотреть, как тогда падали люди, лошади, а оставшиеся переходили в карьер, чтобы скорее добраться до ближайшей лощины. Между тем два улана привезли каску и винтовку того немца, по которому мы дали наш первый залп. Он был убит наповал.
Позади нас бой разгорался. Трещали винтовки, гремели орудийные разрывы, видно было, что там горячее дело. Поэтому мы не удивились, когда влево от нас лопнула граната, взметнув облако снега и грязи, как бык, с размаху ткнувшийся рогами в землю. Мы только подумали, что поблизости лежит наша пехотная цепь. Снаряды рвались все ближе и ближе, все чаще и чаще, мы нисколько не беспокоились, и только подъехавший, чтобы увести нас, офицер сказал, что пехота уже отошла и это обстреливают именно нас. У солдат сразу просветлели лица. Маленькому разъезду очень лестно, когда на него тратят тяжелые снаряды.
По дороге мы увидали наших пехотинцев, угрюмо выходящих из лесу и собирающихся кучками. "Что, земляки, отходите?" - спросил их я. "Приказывают, а нам что? Хоть бы и не отходить... что мы позади потеряли", - недовольно заворчали они. Но бородатый унтер рассудительно заявил: "Нет, это начальство правильно рассудило. Много очень германца-то. Без окопов не сдержать. А вот отойдем к окопам, так там видно будет". В это время с нашей стороны показалась еще одна рота. "Братцы, к нам резерв подходит, продержимся еще немного!" - крикнул пехотный офицер. "И то", - по-прежнему рассудительно сказал унтер и, скинув с плеча винтовку, зашагал обратно в лес. Зашагали и остальные.
В донесениях о таких случаях говорится: под давлением превосходных сил противника наши войска должны были отойти. Дальний тыл, прочтя, пугается, но я знаю, видел своими глазами, как просто и спокойно совершаются такие отходы.
Немного дальше мы встретили окруженного своим штабом командира пехотной дивизии, красивого седовласого старика с бледным, утомленным лицом. Уланы развздыхались: "Седой какой, в дедушки нам годится. Нам, молодым, война так, заместо игры, а вот старым плохо".
Сборный пункт был назначен в местечке С. По нему так и сыпались снаряды, но германцы, как всегда, избрали мишенью костел, и стоило только собраться на другом конце, чтобы опасность была сведена к минимуму.
Со всех сторон съезжались разъезды, подходили с позиций эскадроны. Пришедшие раньше варили картошку, кипятили чай.
Но воспользоваться этим не пришлось, потому что нас построили в колонну и вывели на дорогу. Спустилась ночь, тихая, синяя, морозная. Зыбко мерцали снега. Звезды словно просвечивали сквозь стекло. Нам пришел приказ остановиться и ждать дальнейших распоряжений. И пять часов мы стояли на дороге. Да, эта ночь была одной из самых трудных в моей жизни. Я ел хлеб со снегом, сухой и он не пошел бы в горло; десятки раз бегал вдоль своего эскадрона, но это больше утомляло, чем согревало; пробовал греться около лошади, но ее шерсть была покрыта ледяными сосульками, а дыханье застывало, не выходя из ноздрей. Наконец я перестал бороться с холодом, остановился, засунул руки в карманы, поднял воротник и с тупой напряженностью начал смотреть на чернеющую изгородь и дохлую лошадь, ясно сознавая, что замерзаю. Уже сквозь сон я услышал долгожданную команду: "К коням... садись". Мы проехали версты две и вошли в маленькую деревушку. Здесь можно было наконец согреться. Едва я очутился в халупе, как лег, не сняв ни винтовки, ни даже фуражки, и заснул мгновенно, словно сброшенный на дно самого глубокого, самого черного сна.
Я проснулся со страшной болью в глазах и шумом в голове, оттого что мои товарищи, пристегивая шашкй, толкали меня ногами: "Тревога! Сейчас выезжаем". Как лунатик, ничего не соображая, я поднялся и вышел на улицу. Там трещали пулеметы, люди садились на коней. Мы опять выехали на дорогу и пошли рысью. Мой сон продолжался ровно полчаса.
Мы ехали всю ночь на рысях, потому что нам надо было сделать до рассвета пятьдесят верст, чтобы оборонять местечко К. на узле шоссейных дорог. Что это была за ночь! Люди засыпали на седлах, и никем не управляемые лошади выбегали вперед, так что сплошь и рядом приходилось просыпаться в чужом эскадроне.
Низко нависшие ветви хлестали по глазам и сбрасывали с головы фуражку. Порой возникали галлюцинации. Так, во время одной из остановок я, глядя на крутой, запорошенный снегом откос, целые десять минут был уверен, что мы въехали в какой-то большой город, что передо мной трехэтажный дом с окнами, с балконами, с магазинами внизу. Несколько часов подряд мы скакали лесом. В тишине, разбиваемой только стуком копыт да храпом коней, явственно слышался отдаленный волчий вой. Иногда, чуя волка, лошади начинали дрожать всем телом и становились на дыбы. Эта ночь, этот лес, эта нескончаемая белая дорога казались мне сном, от которого невозможно проснуться. И все же чувство странного торжества переполняло мое сознание. Вот мы, такие голодные, измученные, замерзающие, только что выйдя из боя, едем навстречу новому бою, потому что нас принуждает к этому дух, который так же реален, как наше тело, только бесконечно сильнее его. И в такт лошадиной рыси в моем уме плясали ритмические строки:
Расцветает дух, как роза мая,
Как огонь, он разрывает тьму,
Тело, ничего не понимая,
Слепо повинуется ему.
Мне чудилось, что я чувствую душный аромат этой розы, вижу красные языки огня.
Часов в десять утра мы приехали в местечко К. Сперва стали на позиции, но вскоре, оставив караулы и дозорных, разместились по халупам. Я выпил стакан чаю, поел картошки и, так как все не мог согреться, влез на печь, покрылся валявшимся там рваным армяком и, содрогнувшись от наслаждения, сразу заснул. Что мне снилось, я не помню, должно быть, что-нибудь очень сумбурное, потому что я не слишком удивился, проснувшись от страшного грохота и кучи посыпавшейся на меня известки. Халупа была полна дымом, который выходил в большую дыру в потолке прямо над моей головой. В дыру было видно бледное небо. "Ага, артиллерийский обстрел", - подумал я, и вдруг страшная мысль пронизала мой мозг и в одно мгновенье сбросила меня с печи. Халупа была пуста, уланы ушли.
Тут я действительно испугался. Я не знал, с каких пор я один, куда направились мои товарищи, очевидно не заметившие, как я влез на печь, и в чьих руках было местечко. Я схватил винтовку, убедился, что она заряжена, и выбежал из дверей. Местечко пылало, снаряды рвались там и сям. Каждую минуту я ждал увидеть направленные на меня широкие штыки и услышать грозный окрик: "Halt!" Но вот я услышал топот и, прежде чем успел приготовиться, увидел рыжих лошадей, уланский разъезд. Я побежал к нему и попросил подвезти меня до полка. Трудно было в полном вооружении вспрыгивать на круп лошади, она не стояла, напуганная артиллерийскими разрывами, но зато какая радость была сознавать, что я уже не несчастный заблудившийся, а снова часть уланского полка, а следовательно, и всей русской армии.
Через час я уже был в своем эскадроне, сидел на своей лошади, рассказывал соседям по строю мое приключение. Оказалось, что неожиданно пришло приказание очистить местечко и отходить верст за двадцать на бивак. Наша пехота зашла наступавшим немцам во фланг, и чем дальше они продвинулись бы, тем хуже было бы для них. Бивак был отличный, халупы просторные, и первый раз за много дней мы увидели свою кухню и поели горячего супа.
Как-то утром вахмистр сказал мне: "Поручик Ч. едет в дальний разъезд, проситесь с ним".
Я послушался, получил согласье и через полчаса уже скакал по дороге рядом с офицером.
Тот на мой вопрос сообщил мне, что разъезд действительно дальний, но что, по всей вероятности, мы скоро наткнемся на немецкую заставу и принуждены будем остановиться. Так и случилось. Проехав верст пять, головные дозоры заметили немецкие каски и, подкравшись пешком, насчитали человек тридцать.
Сейчас же позади нас была деревня, довольно благоустроенная, даже с жителями. Мы вернулись в нее, оставив наблюдение, вошли в крайнюю халупу и, конечно, поставили вариться традиционную во всех разъездах курицу. Это обыкновенно берет часа два, а я был в боевом настроении. Поэтому я попросил у офицера пять человек, чтобы попробовать пробраться в тыл немецкой заставе, пугнуть ее, может быть, захватить пленных.
Предприятие было небезопасное, потому что если я оказывался в тылу у немцев, то другие немцы оказывались в тылу у меня... Но предприятием заинтересовались два молодых жителя, и они обещали кружной дорогой подвести нас к самым немцам.
Мы все обдумали и поехали сперва задворками, потом низиной по грязному талому снегу. Жители шагали рядом с нами... Мы проехали ряд пустых окопов, великолепных, глубоких, выложенных мешками с песком.
В одиноком фольварке старик все звал нас есть яичницу, он выселялся и ликвидировал свое хозяйство и на вопрос о немцах отвечал, что за озером с версту расстояния стоит очень много, очевидно несколько эскадронов, кавалерии.
Дальше мы увидали проволочное заграждение, одним концом упершееся в озеро, а другим уходящее... Я оставил человека у проезда через проволочное заграждение, приказал ему стрелять в случае тревоги, с остальными отправился дальше.
Тяжело было ехать, оставляя за собой такую преграду с одним только проездом, который так легко было загородить рогатками. Это мог сделать любой немецкий разъезд, а они крутились поблизости, это говорили и жители, видевшие их полчаса тому назад. Но нам слишком хотелось обстрелять немецкую заставу.
Вот мы въехали в лес, мы знали, что он неширок и что сейчас за ним немцы. Они нас не ждут с этой стороны, наше появление произведет панику. Мы уже сняли винтовки, и вдруг в полной тишине раздался отдаленный звук выстрела. Громовой залп испугал бы нас менее. Мы... переглянулись. "Это у проволоки", - сказал кто-то, мы догадались и без него. "Ну, братцы, залп по лесу и айда назад... авось поспеем!" - сказал я. Мы дали залп и повернули коней.
Вот это была скачка. Деревья и кусты проносились перед нами, комья снега так и летели из-под копыт, баба с ведром в руке у речки глядела на нас с разинутым от удивления ртом. Если бы мы нашли проезд задвинутым, мы бы погибли. Немецкая кавалерия переловила бы нас в полдня. Бот и проволочное заграждение - мы увидели его с холма. Проезд открыт, но наш улан уже на той стороне и стреляет куда-то влево. Мы взглянули туда и сразу пришпорили коней. Наперерез нам скакало десятка два немцев. От проволоки они были на том же расстоянии, что и мы. Они поняли, в чем наше спасение, и решили преградить нам путь.
"Пики к бою, шашки вон!" - скомандовал я, и мы продолжали нестись. Немцы орали и вертели пики над головой. Улан, бывший на той стороне, подцепил рогатку, чтобы загородить проезд, едва мы проскачем. И мы действительно проскакали. Я слышал тяжелый храп и стук копыт передовой немецкой лошади, видел всклокоченную бороду и грозно поднятую пику ее всадника. Опоздай я на пять секунд, мы бы сшиблись. Но я проскочил за проволоку, а он с размаху промчался мимо.
Рогатка, брошенная нашим уланом, легла криво, но немцы все же не решились выскочить за проволочное заграждение и стали спешиваться, чтобы открыть по нам стрельбу. Мы, разумеется, не стали их ждать и низиной вернулись обратно. Курица уже сварилась и была очень вкусна.
К вечеру к нам подъехал ротмистр со всем эскадроном. Наш наблюдательный разъезд развертывался в сторожевое охранение, и мы, как проработавшие весь день, остались на главной заставе.
Ночь прошла спокойно. Наутро запел телефон, и нам сообщили из штаба, что с наблюдательного пункта замечен немецкий разъезд, направляющийся в нашу сторону. Стоило посмотреть на наши лица, когда телефонист сообщил нам об этом. На них не дрогнул ни один мускул. Наконец ротмистр заметил: "Следовало бы еще чаю скипятить". И только тогда мы рассмеялись, поняв всю неестественность нашего равнодушья.
Однако немецкий разъезд давал себя знать. Мы услыхали частую перестрелку слева, и от одного из постов приехал улан с донесением, что им пришлось отойти. "Пусть попробуют вернуться на старое место, - приказал ротмистр, - если не удастся, я пришлю подкрепление". Стрельба усилилась, и через час-другой посланный сообщил, что немцы отбиты и пост вернулся. "Ну и слава Богу, не к чему было и поднимать такую бучу!" - последовала резолюция.
Во многих разъездах я участвовал, но не припомню такого тяжелого, как разъезд корнета князя К., в один из самых холодных мартовских дней. Была метель, и ветер дул прямо на нас. Обмерзшие хлопья снега резали лицо, как стеклом, и не позволяли открыть глаз. Сослепу мы въехали в разрушенное проволочное заграждение, и лошади начали прыгать и метаться, чувствуя уколы. Дорог не было, всюду лежала сплошная белая пелена. Лошади шли чуть не по брюхо в снегу, проваливаясь в ямы, натыкаясь на изгороди. И вдобавок нас каждую минуту могли обстрелять немцы. Мы проехали таким образом верст двадцать.
Под конец остановились. Взвод остался в деревне; вперед, чтобы обследовать соседние фольварки, было выслано два унтер-офицерских разъезда. Один из них повел я. Жители определенно говорили, что в моем фольварке немцы, но надо было в этом удостовериться. Местность была совершенно открытая, подступов никаких, и поэтому мы широкой цепью медленно направились прямо на фольварк. Шагах в восьмистах остановились и дали залп, потом другой. Немцы крепились, не стреляли, видимо надеясь, что мы подъедем ближе. Тогда я решился на последний опыт - симуляцию бегства. По моей команде мы сразу повернулись и помчались назад, как будто заметив врага. Если бы нас не обстреляли, мы бы без опаски поехали в фольварк. К счастью, нас обстреляли.
Другому разъезду менее посчастливилось. Он наткнулся на засаду, и у него убили лошадь. Потеря небольшая, но не тогда, когда находишься за двадцать верст от полка. Обратно мы ехали шагом, чтобы за нами мог поспеть пеший.
Метель улеглась, и наступил жестокий мороз. Я не догадался слезть и идти пешком, задремал и стал мерзнуть, а потом и замерзать. Было такое ощущение, что я голый сижу в ледяной воде. Я уже не дрожал, не стучал зубами, а только тихо и беспрерывно стонал...
А мы еще не сразу нашли свой бивак и с час стояли, коченея, перед халупами, где другие уланы распивали горячий чай, - нам было видно это в окна.
С этой ночи начались мои злоключения. Мы наступали, выбивали немцев из деревень, ходили в разъезды, я тоже проделывал все это, но как во сие, то дрожа в ознобе, то сгорая в жару. Наконец, после одной ночи, в течение которой я, не выходя из халупы, совершил по крайней мере двадцать обходов и пятнадцать побегов из плена, я решил смерить температуру. Градусник показал 38,7º С.
Я пошел к полковому доктору. Доктор велел каждые два часа мерить температуру и лечь, а полк выступал. Я лег в халупе, где оставались два телефониста, но они помещались с телефоном в соседней комнате, и я был один. Днем в халупу зашел штаб казачьего полка, и командир угостил меня мадерой с бисквитами. Он через полчаса ушел, и я опять задремал. Меня разбудил один из телефонистов: "Германцы наступают, мы сейчас уезжаем!" Я спросил, где наш полк, они не знали.
Я вышел во двор. Немецкий пулемет, его всегда можно узнать по звуку, стучал уже совсем близко. Я сел на лошадь и поехал прямо от него,
Темнело. Вскоре я наехал на гусарский бивуак и решил здесь переночевать. Гусары напоили меня чаем, принесли мне соломы для спанья, одолжили даже какое-то одеяло. Я заснул, но в полночь проснулся, померил температуру, обнаружил у себя 39,1º С и почему-то решил, что мне непременно надо отыскать свой полк. Тихонько встал, вышел, никого не будя, нашел свою лошадь и поскакал по дороге, сам не зная куда.
Это была фантастическая ночь. Я пел, кричал, нелепо болтался в седле, для развлеченья брал канавы и барьеры. Раз наскочил на наше сторожевое охранение и горячо убеждал солдат поста напасть на немцев. Встретил двух отбившихся от своей части конноартиллеристов. Они не сообразили, что я - в жару, заразились моим весельем и с полчаса скакали рядом со мной, оглашая воздух криками. Потом отстали. Наутро я совершенно неожиданно вернулся к гусарам. Они приняли во мне большое участие и очень выговаривали мне мою ночную эскападу.
Весь следующий день я употребил на скитанья по штабам: сперва - дивизии, потом бригады и, наконец, - полка. И еще через день уже лежал на подводе, которая везла меня к ближайшей станции железной дороги. Я ехал на излечение в Петроград.
Целый месяц после этого мне пришлось пролежать в постели.
Теперь я хочу рассказать о самом знаменательном дне моей жизни, о бое шестого июля 1915 г. Это случилось уже на другом, совсем новом для нас фронте. До того были у нас и перестрелки, и разъезды, но память о них тускнеет по сравнению с тем днем.
Накануне зарядил затяжной дождь. Каждый раз, как нам надо было выходить из домов, он усиливался. Так усилился он и тогда, когда поздно вечером нас повели сменять сидевшую в окопах армейскую кавалерию.
Дорога шла лесом, тропинка была узенькая, тьма - полная, не видно вытянутой руки. Если хоть на минуту отстать, приходилось скакать и натыкаться на обвисшие ветви и стволы, пока наконец не наскочишь на круп передних коней. Не один глаз был подбит и не одно лицо расцарапано в кровь.
На поляне - мы только ощупью определили, что это поляна, - мы спешились. Здесь должны были остаться коноводы, остальные - идти в окоп. Пошли, но как? Вытянувшись гуськом и крепко вцепившись друг другу в плечи. Иногда кто-нибудь, наткнувшись на пень или провалившись в канаву, отрывался, тогда задние ожесточенно толкали его вперед, и он бежал и окликал передних, беспомощно хватая руками мрак. Мы шли болотом и ругали за это проводника, но он был не виноват, наш путь действительно лежал через болото. Наконец, пройдя версты три, мы уткнулись в бугор, из которого, к нашему удивлению, начали вылезать люди. Это и были те кавалеристы, которых мы пришли сменить.
Мы их спросили, каково им было сидеть. Озлобленные дождем, они молчали, и только один проворчал себе под нос: "А вот сами увидите, стреляет немец, должно быть, утром в атаку пойдет". "Типун тебе на язык, - подумали мы, - в такую погоду да еще атака!"
Собственно говоря, окопа не было. По фронту тянулся острый хребет невысокого холма, и в нем был пробит ряд ячеек на одного-двух человек с бойницами для стрельбы. Мы забрались в эти ячейки, дали несколько залпов в сторону неприятеля и, установив наблюденье, улеглись подремать до рассвета. Чуть стало светать, нас разбудили: неприятель делает перебежку и окапывается, открыть частый огонь.
Я взглянул в бойницу. Было серо, и дождь лил по-прежнему. Шагах в двух-трех передо мной копошился австриец, словно крот, на глазах уходящий в землю. Я выстрелил. Он присел в уже выкопанную ямку и взмахнул лопатой, чтобы показать, что я промахнулся. Через минуту он высунулся, я выстрелил снова и увидел новый взмах лопаты. Но после третьего выстрела уже ни он, ни его лопата больше не показались.
Другие австрийцы тем временем уже успели закопаться и ожесточенно обстреливали нас. Я переполз в ячейку, где сидел наш корнет. Мы стали обсуждать создавшееся положение. Нас было полтора эскадрона, то есть человек восемьдесят, австрийцев раз в пять больше. Неизвестно, могли бы мы удержаться в случае атаки.
Так мы болтали, тщетно пытаясь закурить подмоченные папиросы, когда наше внимание привлек какой-то странный звук, от которого вздрагивал наш холм, словно гигантским молотом ударяли прямо по земле. Я начал выглядывать в бойницу не слишком свободно, потому что в нее то и дело влетали пули, и наконец заметил на половине расстояния между нами и австрийцами разрывы тяжелых снарядов. "Ура! - крикнул я, - это наша артиллерия кроет по их окопам".
В тот же миг к нам просунулось нахмуренное лицо ротмистра. "Ничего подобного, - сказал он, - это их недолеты, они палят по нам. Сейчас бросятся в атаку. Нас обошли с левого фланга. Отходить к коням!"
Корнет и я, как от толчка пружины, вылетели из окопа. В нашем распоряжении была минута или две, а надо было предупредить об отходе всех людей и послать в соседний эскадрон. Я побежал вдоль окопов, крича: "К коням... живо! Нас обходят!" Люди выскакивали, расстегнутые, ошеломленные, таща под мышкой лопаты и шашки, которые они было сбросили в окопе. Когда все вышли, я выглянул в бойницу и до нелепости близко увидел перед собой озабоченную физиономию усатого австрийца, а за ним еще других. Я выстрелил не целясь и со всех ног бросился догонять моих товарищей.
Нам надо было пробежать с версту по совершенно открытому полю, превратившемуся в болото от непрерывного дождя.
Дальше был бугор, какие-то сараи, начинался редкий лес. Там можно было бы и отстреливаться; и продолжать отход, судя по обстоятельствам. Теперь же, ввиду поминутно стреляющего врага, оставалось только бежать, и притом как можно скорее.
Я нагнал моих товарищей сейчас же за бугром. Они уже не могли бежать и под градом пуль и снарядов шли тихим шагом, словно прогуливаясь. Особенно страшно было видеть ротмистра, который каждую минуту привычным жестом снимал пенсне и аккуратно протирал сыреющие стекла совсем мокрым носовым платком.
За сараем я заметил корчившегося на земле улана. "Ты ранен?" - спросил я его. "Болен... живот схватило!" - простонал он в ответ.
"Вот еще, нашел время болеть! - начальническим тоном закричал я. - Беги скорей, тебя австрийцы проколют!" Он сорвался с места и побежал; после очень благодарил меня, но через два дня его увезли в холере.
Вскоре на бугре показались и австрийцы. Они шли сзади шагах в двухстах и то стреляли, то махали нам руками, приглашая сдаться. Подходить ближе они боялись, потому что среди нас рвались снаряды их артиллерии. Мы отстреливались через плечо, не замедляя шага.
Слева от меня из кустов послышался плачущий крик: "Уланы, братцы, помогите!" Я обернулся и увидел завязший пулемет, при котором остался только один человек из команды да офицер. "Возьмите кто-нибудь пулемет", - приказал ротмистр. Конец его слов был заглушён громовым разрывом снаряда, упавшего среди нас. Все невольно прибавили шаг.
Однако в моих ушах все стояла жалоба пулеметного офицера, и я, топнув ногой и обругав себя за трусость, быстро вернулся и схватился за лямку. Мне не пришлось в этом раскаяться, потому что в минуту большой опасности нужнее всего какое-нибудь занятие. Солдат-пулеметчик оказался очень обстоятельным. Он болтал без перерыва, выбирая дорогу, вытаскивая свою машину из ям и отцепляя от корней деревьев. Не менее оживленно щебетал и я. Один раз снаряд грохнулся шагах в пяти от нас. Мы невольно остановились, ожидая разрыва. Я для чего-то стал считать - раз, два, три. Когда я дошел до пяти, я сообразил, что разрыва не будет. "Ничего на этот раз, везем дальше... что задерживаться?" - радостно объявил мне пулеметчик, - и мы продолжали свой путь.
Кругом было не так благополучно. Люди падали, одни ползли, другие замирали на месте. Я заметил шагах в ста группу солдат, тащивших кого-то, но не мог бросить пулемета, чтобы поспешить им на помощь. Уже потом мне сказали, что это был раненый офицер нашего эскадрона. У него были прострелены ноги и голова. Когда его подхватили, австрийцы открыли особенно ожесточенный огонь и переранили нескольких несущих. Тогда офицер потребовал, чтобы его положили на землю, поцеловал и перекрестил бывших при нем солдат и решительно приказал им спасаться. Нам всем было его жаль до слез. Он последний со своим взводом прикрывал общий отход. К счастью, теперь мы знаем, что он в плену и поправляется.
Наконец мы достигли леса и увидели своих коней. Пули летали и здесь; один из коноводов даже был ранен, но мы все вздохнули свободно, минут десять пролежали в цепи, дожидаясь, пока уйдут другие эскадроны, и лишь тогда сели на коней.
Отходили мелкой рысью, грозя атакой наступавшему врагу. Наш тыльный дозорный ухитрился даже привезти пленного. Он ехал оборачиваясь, как ему и полагалось, и, заметив между стволов австрийца с винтовкой наперевес, бросился на него с обнаженной шашкой. Австриец уронил оружие и поднял руки. Улан заставил его подобрать винтовку - не пропадать же, денег стоит - и, схватив за шиворот и пониже спины, перекинул поперек седла, как овцу. Встречным он с гордостью объявил:
"Вот, георгиевского кавалера в плен взял, везу в штаб". Действительно, австриец был украшен каким-то крестом.
Только подойдя к деревне З., мы выпутались из австрийского леска и возобновили связь с соседями. Послали сообщить пехоте, что неприятель наступает превосходными силами, и решили держаться во что бы то ни стало до прибытия подкрепления. Цепь расположилась вдоль кладбища, перед ржаным полем, пулемет мы взгромоздили на дерево. Мы никого не видели и стреляли прямо перед собой в колеблющуюся рожь, поставив прицел на две тысячи шагов и постепенно опуская, но наши разъезды, видевшие австрийцев, выходящих из лесу, утверждали, что наш огонь нанес им большие потери. Пули все время ложились возле нас и за нами, выбрасывая столбики земли. Один из таких столбиков засорил мне глаз, который мне после долго пришлось протирать.
Вечерело. Мы весь день ничего не ели и с тоской ждали новой атаки впятеро сильнейшего врага. Особенно удручающе действовала время от времени повторявшаяся команда: "Опустить прицел на сто!" Это значило, что на столько же шагов приблизился к нам неприятель.
Оборачиваясь, я позади себя сквозь сетку мелкого дождя и наступающие сумерки заметил что-то странное, как будто низко по земле стелилась туча. Или это был кустарник, но тогда почему же он оказывался все ближе и ближе? Я поделился своим открытием с соседями. Они тоже недоумевали. Наконец один дальнозоркий крикнул: "Это наша пехота идет!" - и даже вскочил от радостного волнения. Вскочили и мы, то сомневаясь, то веря и совсем забыв про пули.
Вскоре сомненьям не было места. Нас захлестнула толпа невысоких коренастых бородачей, и мы услыхали ободряющие слова: "Что, братики, или туго пришлось? Ничего, сейчас все устроим!" Они бежали мерным шагом (так пробежали десять верст) и нисколько не запыхались, на бегу свертывали цигарки, делились хлебом, болтали. Чувствовалось, что ходьба для них естественное состояние. Как я их любил в тот миг, как восхищался их грозной мощью.
Вот уж они скрылись во ржи, и я услышал чей-то звонкий голос, кричавший: "Мирон, ты фланг-то загибай австрийцам!" - "Ладно, загнем", - был ответ. И сейчас же грянула пальба пятисот винтовок. Они увидели врага.
Мы послали за коноводами и собрались уходить, но я был назначен быть для связи с пехотой. Когда я приближался к их цепи, я услышал громовое "ура". Но оно как-то сразу оборвалось, и раздались отдельные крики: "Лови, держи! Ай, уйдет!" - совсем как при уличном скандале. Неведомый мне Мирон оказался на высоте положения. Половина нашей пехоты под прикрытием огня остальных зашла австрийцам во фланг и отрезала полтора их батальона. Те сотнями бросали оружие и покорно шли в указанное им место, к группе старых дубов. Всего в этот вечер было захвачено восемьсот человек и кроме того возвращены утерянные вначале позиции.
Вечером, после уборки лошадей, мы сошлись с вернувшимися пехотинцами. "Спасибо, братцы, - говорили мы, - без вас бы нам была крышка!" - "Не на чем, - отвечали они, - как вы до нас-то держались? Ишь ведь их сколько было! Счастье ваше, что не немцы, а австрийцы". Мы согласились, что это действительно было счастье.
В те дни заканчивался наш летний отход. Мы отступали уже не от невозможности держаться, а по приказам, получаемым из штабов. Иногда случалось, что после дня ожесточенного боя отступали обе стороны и кавалерии потом приходилось восстанавливать связь с неприятелем.
Так случилось и в тот великолепный, немного пасмурный, но теплый и благоуханный вечер, когда мы поседлали по тревоге работы. На мгновенье у меня мелькнула мысль взять эту и другие картины с собой. Без подрамников они заняли бы немного места. Но я не мог угадать планов высшего начальства; может быть, эту местность решено ни за что не отдавать врагу.
Что бы тогда подумал об уланах вернувшийся хозяин? Я вышел, сорвал в саду яблоко и, жуя его, поехал дальше.
Нас не обстреляли, и мы вернулись назад. А через несколько часов я увидел большое розовое зарево и узнал, что это. подожгли тот самый помещичий дом, потому что он заслонял обстрел из наших окопов. Вот когда я горько пожалел о своей щепетильности относительно картин.
Ночь была тревожная, - все время выстрелы, порою треск пулемета. Часа в два меня вытащили из риги, где я спал зарывшись в снопы, и сказали, что пора идти в окоп. В нашей смене было двенадцать человек под командой подпрапорщика. Окоп был расположен на нижнем склоне холма, спускавшегося к реке. Он был неплохо сделан, но зато никакого отхода, бежать приходилось в гору по открытой местности. Весь вопрос заключался в том, в эту или следующую ночь немцы пойдут в атаку. Встретившийся нам ротмистр посоветовал не принимать штыкового боя, но про себя мы решили обратное. Все равно уйти не представлялось возможности.
Когда рассвело, мы уже сидели в окопе. От нас было прекрасно видно, как на том берегу немцы делали перебежку, но не наступали, а только окапывались. Мы стреляли, но довольно вяло, потому что они были очень далеко. Вдруг позади нас рявкнула пушка, - мы даже вздрогнули от неожиданности, - и снаряд, перелетев через наши головы, разорвался в самом неприятельском окопе. Немцы держались стойко. Только после десятого снаряда, пущенного с тою же меткостью, мы увидали серые фигуры, со всех ног бежавшие к ближнему лесу, и белые дымки шрапнелей над ними. Их было около сотни, но спаслось едва ли человек двадцать.
За такими занятиями мы скоротали время до смены и уходили весело, рысью и по одному, потому что какой-то хитрый немец, очевидно, отличный стрелок, забрался нам во фланг и, не видимый нами, стрелял, как только кто-нибудь выходил на открытое место. Одному прострелил накидку, другому поцарапал шею. "Ишь ловкий!" - без всякой злобы говорили о нем солдаты. А пожилой почтенный подпрапорщик на бегу приговаривал: "Ну и веселые немцы! Старичка и того расшевелили, бегать заставили".
На ночь мы опять пошли в окопы. Немцы узнали, что здесь только кавалерия, и решили во что бы то ни стало форсировать переправу до прихода нашей пехоты. Мы заняли каждый свое место и, в ожидании утренней атаки, задремали, кто стоя, кто присев на корточки.
Песок со стены окопа сыпался нам за ворот, ноги затекали, залетавшие время от времени к нам пули жужжали, как большие, опасные насекомые, а мы спали, спали слаще и крепче, чем на самых мягких постелях. И вещи вспоминались все такие милые - читанные в детстве книги, морские пляжи с гудящими раковинами, голубые гиацинты. Самые трогательные и счастливые часы, это - часы перед битвой.
Караульный пробежал по окопу, нарочно по ногам спящих, и, для верности толкая их прикладом, повторял: "Тревога, тревога". Через несколько мгновений, как бы для того, чтобы окончательно разбудить спящих, пронесся шепот: "Секреты бегут". Несколько минут трудно было что-нибудь понять. Стучали пулеметы, мы стреляли без перерыва по светлой полосе воды, и звук наших выстрелов сливался со страшно участившимся жужжаньем немецких пуль. Мало-помалу все стало стихать, послышалась команда: "Не стрелять", - и мы поняли, что отбили первую атаку.
После первой минуты торжества мы призадумались, что будет дальше. Первая атака обыкновенно бывает пробная, по силе нашего огня немцы определили, сколько нас, и вторая атака, конечно, будет решительная, они могут выставить пять человек против одного. Отхода нет, нам приказано держаться, что-то останется от эскадрона?
Поглощенный этими мыслями, я вдруг заметил маленькую фигурку в серой шинели, наклонившуюся над окопом и затем легко спрыгнувшую вниз. В одну минуту окоп уже кишел людьми, как городская площадь в базарный день.
Пехота? - спросил я.
Пехота. Вас сменять, - ответило сразу два десятка голосов.
А сколько вас?
Дивизия.
Я не выдержал и начал хохотать по-настоящему, от души. Так вот что ожидает немцев, сейчас пойдущих в атаку, чтобы раздавить один-единственный несчастный эскадрон. Ведь их теперь переловят голыми руками. Я отдал бы год жизни, чтобы остаться и посмотреть на все, что произойдет. Но надо было уходить.
Мы уже садились на коней, когда услыхали частую немецкую пальбу, возвещавшую атаку. С нашей стороны было зловещее молчание, и мы только многозначительно переглянулись.
Корпус, к которому мы были прикомандированы, отходил. Наш полк отправили посмотреть, не хотят ли немцы перерезать дорогу, и если да, то помешать им в этом. Работа чисто кавалерийская.
Мы на рысях пришли в деревушку, расположенную на единственной проходимой в той местности дороге, и остановились, потому что головной разъезд обнаружил в лесу накапливающихся немцев. Наш эскадрон спешился и залег в канаве по обе стороны дороги.
Вот из черневшего вдали леса выехало несколько всадников в касках. Мы решили подпустить их совсем близко, но наш секрет, выдвинутый вперед, первый открыл по ним пальбу, свалил одного человека с конем, другие ускакали. Опять стало тихо и спокойно, как бывает только в теплые дни ранней осени.
Перед этим мы больше недели стояли в резерве, и неудивительно, что у нас играли косточки. Четыре унтер-офицера, - я в том числе, - выпросили у поручика разрешение зайти болотом, а потом опушкой леса во фланг германцам и, если удастся, немного их пугнуть. Получили предостережение не утонуть в болоте и отправились.
С кочки на кочку, от куста к кусту, из канавы в канаву мы наконец, не замеченные немцами, добрались до перелеска, шагах в пятидесяти от опушки. Дальше, как широкий светлый коридор, тянулась низко выкошенная поляна. По нашим соображениям, в перелеске непременно должны были стоять немецкие посты, но мы положились на воинское счастье и, согнувшись, по одному быстро перебежали поляну.
Забравшись в самую чащу, передохнули и прислушались. Лес был полон неясных шорохов. Шумели листья, щебетали птицы, где-то лилась вода. Понемногу стали выделяться и другие звуки, стук копыта, роющего землю, звон шашки, человеческие голоса. Мы крались, как мальчишки, играющие в героев Майн Рида или Густава Эмара, друг за другом, на четвереньках, останавливаясь каждые десять шагов. Теперь мы были уже совсем в неприятельском расположении. Голоса слышались не только впереди, но и позади нас. Но мы еще никого не видели.
Не скрою, что мне было страшно тем страхом, который лишь с трудом побеждается волей. Хуже всего было то, что я никак не мог представить себе германцев в их естественном виде. Мне казалось, что они то, как карлики, выглядывают из-под кустов злыми крысиными глазками, то огромные, как колокольни, и страшные, как полинезийские боги, неслышно раздвигают верхи деревьев и следят за нами с недоброй усмешкой. А в последний миг крикнут: "А, а, а!" - как взрослые, пугающие детей. Я с надеждой взглядывал на свой штык, как на талисман против колдовства, и думал, что сперва всажу его в карлика ли, в великана, а потом пусть будет что будет.
Вдруг ползший передо мной остановился, и я с размаху ткнулся лицом в широкие и грязные подошвы его сапог. По его лихорадочным движениям я понял, что он высвобождает из ветвей свою винтовку. А за его плечом на небольшой темной поляне, шагах в пятнадцати, не дальше, я увидел немцев. Их было двое, очевидно случайно отошедших от своих: один - в мягкой шапочке, другой - в каске, покрытой суконным чехлом. Они рассматривали какую-то вещицу, монету или часы, держа ее в руках. Тот, что в каске, стоял ко мне лицом, и я запомнил его рыжую бороду и морщинистое лицо прусского крестьянина. Другой стоял ко мне спиной, показывая сутуловатые плечи. Оба держали у плеча винтовки с примкнутыми штыками.
Только на охоте за крупными зверьми, леопардами, буйволами, я испытал то же чувство, когда тревога за себя вдруг сменяется боязнью упустить великолепную добычу. Лежа, я подтянул свою винтовку, отвел предохранитель, прицелился в самую середину туловища того, кто был в каске, и нажал спуск. Выстрел оглушительно пронесся по лесу. Немец опрокинулся на спину, как от сильного толчка в грудь, не крикнув, не взмахнув руками, а его товарищ, как будто только того и дожидался, сразу согнулся и, как кошка, бросился в лес. Над моим ухом раздались еще два выстрела, и он упал в кусты, так что видны были только его ноги.
"А теперь айда!" - шепнул взводный с веселым и взволнованным лицом, и мы побежали. Лес вокруг нас ожил. Гремели выстрелы, скакали кони, слышалась команда на немецком языке. Мы добежали до опушки, но не в том месте, откуда пришли, а много ближе к врагу. Надо было перебежать к перелеску, где, по всей вероятности, стояли неприятельские посты.
После короткого совещания было решено, что я пойду первым, и если буду ранен, то мои товарищи, которые бегали гораздо лучше меня, подхватят меня и унесут. Я наметил себе на полпути стог сена и добрался до него без помехи. Дальше приходилось идти прямо на предполагаемого врага. Я пошел, согнувшись и ожидая каждую минуту получить пулю вроде той, которую сам только что послал неудачливому немцу. И прямо перед собой в перелеске я увидел лисицу. Пушистый красновато-бурый зверь грациозно и неторопливо скользил между стволов. Не часто в жизни мне приходилось испытывать такую чистую, простую и сильную радость. Где есть лисица, там наверное нет людей. Путь к нашему отступлению свободен.
Когда мы вернулись к своим, оказалось, что мы были в отсутствии не более двух часов. Летние дни длинны, и мы, отдохнув и рассказав о своих приключениях, решили пойти снять седло с убитой немецкой лошади.
Она лежала на дороге перед самой опушкой. С нашей стороны к ней довольно близко подходили кусты. Таким образом, прикрытие было и у нас, и у неприятеля.
Едва высунувшись из кустов, мы увидели немца, нагнувшегося над трупом лошади. Он уже почти отцепил седло, за которым мы пришли. Мы дали по нему залп, и он, бросив все, поспешно скрылся в лесу. Оттуда тоже загремели выстрелы.
Мы залегли и принялись обстреливать опушку. Если бы немцы ушли оттуда, седло и все, что в кобурах при седле, дешевые сигары и коньяк, все было бы наше. Но немцы не уходили. Наоборот, они, очевидно, решили, что мы перешли в общее наступление, и стреляли без передышки. Мы пробовали зайти им во фланг, чтобы отвлечь их внимание от дороги, они послали туда резервы и продолжали палить. Я думаю, что, если бы они знали, что мы пришли только за седлом, они с радостью отдали бы нам его, чтобы не затевать такой истории. Наконец мы плюнули и ушли.
Однако наше мальчишество оказалось очень для нас выгодным. На рассвете следующего дня, когда можно было ждать атаки и когда весь полк ушел, оставив один наш взвод прикрывать общий отход, немцы не тронулись с места, может быть ожидая нашего нападения, и мы перед самым их носом беспрепятственно подожгли деревню, домов в восемьдесят по крайней мере. А потом весело отступали, поджигая деревни, стога сена и мосты, изредка перестреливаясь с наседавшими на нас врагами и гоня перед собою отбившийся от гуртов скот. В благословенной кавалерийской службе даже отступление может быть веселым.
На этот раз мы отступали недолго. Неожиданно пришел приказ остановиться, и мы растрепали ружейным огнем не один зарвавшийся немецкий разъезд. Тем временем наша пехота, неуклонно продвигаясь, отрезала передовые немецкие части. Они спохватились слишком поздно. Одни выскочили, побросав орудия и пулеметы, другие сдались, а две роты, никем не замеченные, блуждали в лесу, мечтая хоть ночью поодиночке выбраться из нашего кольца.
Вот как мы их обнаружили. Мы были разбросаны эскадронами в лесу в виде резерва пехоты. Наш эскадрон стоял на большой поляне у дома лесника. Офицеры сидели в доме, солдаты варили картошку, кипятили чай. Настроение у всех было самое идиллическое.
Я держал в руках стакан чаю и глядел, как откупоривают коробку консервов, как вдруг услышал оглушительный пушечный выстрел. "Совсем как на войне", - пошутил я, думая, что это выехала на позицию наша батарея. А хохол, эскадронный забавник, - в каждой части есть свои забавники - бросился на спину и заболтал руками и ногами, представляя крайнюю степень испуга. Однако вслед за выстрелом послышался дребезжащий визг, как от катящихся по снегу саней, и шагах в тридцати от нас, в лесу, разорвалась шрапнель. Еще выстрел, и снаряд пронесся над нашими головами.
И в то же время в лесу затрещали винтовки и вокруг нас засвистали пули. Офицер скомандовал: "К коням", но испуганные лошади уже метались по поляне или мчались по дороге. Я с трудом поймал свою, но долго не мог на нее вскарабкаться, потому что она оказалась на пригорке, а я - в лощине. Она дрожала всем телом, но стояла смирно, зная, что я не отпущу ее, прежде чем не вспрыгну в седло. Эти минуты мне представляются дурным сном. Свистят пули, лопаются шрапнели, мои товарищи проносятся один за другим, скрываясь за поворотом, поляна уже почти пуста, а я все скачу на одной ноге, тщетно пытаясь сунуть в стремя другую. Наконец я решился, отпустил поводья и, когда лошадь рванулась, одним гигантским прыжком оказался у нее на спине.
Скача, я все высматривал командира эскадрона. Его не было. Вот уже передние ряды, вот поручик, кричащий: "В порядке, в порядке". Я подскакиваю и докладываю: "Штаб-ротмистра нет, ваше благородие!" Он останавливается и отвечает: "Поезжайте найдите его".
Едва я проехал несколько шагов назад, я увидел нашего огромного и грузного штаб-ротмистра верхом на маленькой гнеденькой лошаденке трубача, которая подгибалась под его тяжестью и трусила, как крыса. Трубач бежал рядом, держась за стремя. Оказывается, лошадь штаб-ротмистра умчалась при первых же выстрелах и он сел на первую ему предложенную.
Мы отъехали с версту, остановились и начали догадываться, в чем дело. Вряд ли бы нам удалось догадаться, если бы приехавший из штаба бригады офицер не рассказал следующего: они стояли в лесу без всякого прикрытия, когда перед ними неожиданно прошла рота германцев. И те и другие отлично видели друг друга, но не открывали враждебных действий: наши - потому, что их было слишком мало, немцы же были совершенно подавлены своим тяжелым положением. Немедленно артиллерии был дан приказ стрелять по лесу. И так как немцы прятались всего шагах в ста от нас, то неудивительно, и снаряды летали и в нас.
Сейчас же были отправлены разъезды ловить разбредшихся в лесу немцев. Они сдавались без боя, и только самые смелые пытались бежать и вязли в болоте. К вечеру мы совсем очистили от них лес и легли спать со спокойной совестью, не опасаясь никаких неожиданностей.
Через несколько дней у нас была большая радость. Пришли два улана, полгода тому назад захваченные в плен. Они содержались в лагере внутри Германии. Задумав бежать, притворились больными, попали в госпиталь, а там доктор, германский подданный, но иностранного происхождения, достал для них карту и компас. Спустились по трубе, перелезли через стену и сорок дней шли с боем по Германии.
Да, с боем. Около границы какой-то доброжелательный житель указал им, где русские при отступлении зарыли большой запас винтовок и патронов. К этому времени их было уже человек двенадцать. Из глубоких рвов, заброшенных риг, лесных ям к ним присоединился еще десяток ночных обитателей современной Германии - бежавших пленных. Они выкопали оружие и опять почувствовали себя солдатами. Выбрали взводного, нашего улана, старшего унтер-офицера, и пошли в порядке, высылая дозорных и вступая в бой с немецкими обозными и патрулями.
У Немана на них наткнулся маршевый немецкий батальон и после ожесточенной перестрелки почти окружил их. Тогда они бросились в реку и переплыли ее, только потеряли восемь винтовок и очень этого стыдились. Все-таки, подходя к нашим позициям, опрокинули немецкую заставу, преграждавшую им путь, и пробились в полном составе.
Слушая, я все время внимательно смотрел на рассказчика. Он был высокий, стройный и сильный, с нежными и правильными чертами лица, с твердым взглядом и закрученными русыми усами. Говорил спокойно, без рисовки, пушкински ясным языком, с солдатской вежливостью отвечая на вопросы: "Так точно, никак нет". И я думал, как было бы дико видеть этого человека за плугом или у рычага заводской машины. Есть люди, рожденные только для войны, и в России таких людей не меньше, чем где бы то ни было. И если им нечего делать "в гражданстве северной державы", то они незаменимы "в ее воинственной судьбе", а поэт знал, что это - одно и то же.
Впервые опубликовано: Глава I - "Биржевые ведомости", № 14648 от 3 февраля 1915 г.
Глава II - "Биржевые ведомости", № 14821 от 3 мая 1915 г.
Глава III - "Биржевые ведомости", № 14851 от 19 мая 1915 г.
Глава IV - "Биржевые ведомости", № 14881 от 3 нюня 1915 г.
Глава V - "Биржевые ведомости", № 14887 от 6 июня 1915 г.
Глава VI - "Биржевые ведомости", № 15137 от 9 октября 1915 г.
Глава VII - "Биржевые ведомости", № 15155 от 18 октября 1915 г.
Глава VIII - "Биржевые ведомости", № 15183 от 1 ноября 1915 г.
Глава IX - "Биржевые ведомости", № 15189 от 4 ноября 1915 г.
Глава X - "Биржевые ведомости", № 15225 от 22 ноября 1915 г.
Глава XI - "Биржевые ведомости", № 15253 от 6 декабря 1915 г.
Глава XII и XIII - "Биржевые ведомости", № 15267 и 15269 от 13 и 14 декабря 1915 г.
Глава XIV - "Биржевые ведомости", № 15279 от 19 декабря 1915 г.
Глава XV - "Биржевые ведомости", № 15285 от 22 декабря 1915 г.
Главы XVI и XVII - "Биржевые ведомости", № 15316 от 11 января 1916 г.
Николай Степанович Гумилев (1886-1921) русский поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма, переводчик, литературный критик, путешественник.