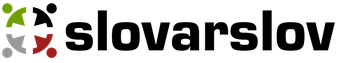– Какими для вас были школьные годы? Если угодно, в Церкви не происходит того изменения языка, которое происходит в светском обществе, в языке журналов, в языке образованного общества. В результате, когда говорят выходцы из духовных академий, они говорят,
Андрей Тесля – кандидат философских наук, эксперт в области русской общественной мысли. Его научные интересы включают: историю западноевропейской политико-правовой мысли XVII-XIX вв. (в первую очередь – консервативные и реакционные доктрины); русскую социально-философскую и общественную мысль XIX века; русское гражданское право XIX – нач. XX века.
Мне плохо там, где нет мощной реки, моря или океана
– Вы родились и долгое время работали в Хабаровске, а скоро переедете в Калининград. Вы – один из немногих моих знакомых, которые своей географией жизни и работы как бы интеллектуально объединяют Россию. Вы много ездите, много путешествуете, в том числе и за границу. Расскажите, пожалуйста, о себе.
– Я – коренной дальневосточник в третьем поколении. Это достаточно редкое явление, потому что сам город был основан в 1856 году как военный пост, и городом он стал официально довольно поздно, а по существу – и еще позднее. Поэтому основное городское население, как и во многих городах подобного типа, в Хабаровске из самых старожилов – это те, чьи местные корни восходят к концу XIX – началу XX века, а вторая и третья волны – это 1930-е и затем 1950-е – 1960-е годы. Это те, кого обычно называют коренными дальневосточниками, с известной долей условности, разумеется.
Сам я, и мои предки по материнской линии, и по обеим линиям со стороны жены – постоянно жили на Дальнем Востоке. Такое редко бывает, чтобы три поколения двух семей жили в одном городе на Дальнем Востоке. Потому что обычно всегда есть какие-то траектории движения хотя бы в пределах Приморского, Хабаровского краев или Амурской области.
«На автопилоте» я хотел сказать, что очень люблю Дальний Восток… Но потом подумал и решил, что, видимо, более корректно сказать, что я очень люблю Хабаровск и Владивосток. Мой родной город находится на берегу Амура, и я с трудом представляю себя без большой воды. Я привык жить возле огромной реки, так что мне плохо в тех местах, где нет мощной реки, или моря, или океана.
В этом плане, уже когда удалось поездить по России, я всегда удивлялся, если в городе не было большой реки. Я помню, когда жена, уже в достаточно зрелом возрасте, впервые оказалась в Москве и была поражена. Ведь все время говорят: «Москва-река», «Москва-река». И это называют рекой?
Андрей Тесля с женой. Фото из личного архива
Дальше мы поездили по всем известным европейским рекам – по Висле, Одеру, Рейну… Ну, да, формальные критерии соблюдены, это реки, но на Дальнем Востоке привыкаешь, что рекой называют нечто совсем другое. Начинаешь понимать, что у слова «река» есть несколько смыслов. Трудно объяснить человеку, который не видел наши амурские просторы, как, в принципе, может выглядеть эта река, как устроено это пространство.
Тот ландшафт, в котором ты растешь, остается для тебя основным. И речь даже не о привязанности к малой Родине. Ты можешь этот ландшафт не любить, но все остальное оцениваешь уже на его основе, он становится для тебя естественной нормой.
То место, где ты родился, выступает для тебя в качестве естественной среды.
Важно отметить, что дальневосточные города разные, и пространство, например, в Хабаровске устроено довольно любопытно. Хабаровск традиционно всегда функционировал как военно-административный центр. Он может считаться городом лишь с некоторыми оговорками: с одной стороны, это административная столица, где была резиденция генерал-губернатора, теперь президентского полпреда, где находятся представительства большинства центральных ведомств по региону, с другой – это штаб командования Дальневосточного военного округа и бесконечные военные части в городе и вокруг него. Получается, что все остальное, что существует, оно либо существует в связи с этим, либо между этим, в каких-то возникших расщелинах.
– Какими для вас были школьные годы?
– Я безмерно благодарен школе, причем во многом именно потому, что в ней не учился. В школе, которую я заканчивал, был замечательный директор, близкий знакомый нашей семьи, великолепный преподаватель русской литературы. И благодаря ему, его доброй воле значительную часть предметов я имел возможность проходить в режиме экстерната.
Одно из самых приятных воспоминаний – это очень специфические уроки литературы. Сначала я писал сочинение по какому-либо классическому тексту, а потом на протяжении часа мы обсуждали соответствующие тексты. В 9-м классе мы читали и обсуждали «Войну и мир», и сочинения превращались в эссе.
Роман «Война и мир» был моей первой большой литературной любовью, причем это была влюбленность в философию Толстого, которая обычно школьникам не нравится. А мне до сих пор кажется странным это сопротивление толстовской позиции – стремление пропустить эти длинные обсуждения, поскорее перейти к сценам военным или семейному роману в романе. Мне нравилась и выбранная им историческая оптика, и как он это выстраивает, когда он говорит о времени, когда он говорит о действии во времени.
А вот Достоевского я открыл для себя очень поздно. Разумеется, в рамках школьной программы довелось прочесть «Преступление и наказание», кажется, еще до него, случайным образом, «Братьев Карамазовых», первым его романом оказалось «Село Степанчиково…», как-то подвернувшееся под руку, но Достоевский долгое время оставался мне чуждым. Может быть, это и к лучшему.
Мне в свое время казалось, что Достоевский – это такая социальная фантастика, что описываемых людей и ситуаций не бывает, что люди так не говорят и не взаимодействуют. И затем уже, сильно позже пришло и другое видение, и другое отношение к Достоевскому. Я бы сказал, что возврат к Достоевскому был опять же предопределен занятиями в школе. Школа здесь – определяющий фактор в том смысле, что мне очень крепко повезло, что это было не стандартное образование, а возможность учиться экстерном.

– Как происходил выбор университета? Как определилась область научных интересов?
– После школы у меня был достаточно стандартный путь. Я пошел учиться на юриста в Дальневосточный госуниверситет путей сообщения. Это была юриспруденция, причем юриспруденция на транспорте. И сначала я интересовался как раз гражданским правом – то есть у меня изначально была и оставалась гражданско-правовая специализация, а затем меня стала все больше интересовать история русского гражданского права.
Еще перед университетом возник большой детский интерес к истории. Потом, на стадии взросления – это все, видимо, переживают за совсем немногими исключениями – у меня возник интерес к философии. Так что, во многом благодаря замечательному наставнику, тогдашнему заведующему нашей выпускающей кафедрой Михаилу Александровичу Ковальчуку, специалисту в области истории железнодорожного права, получилось сочетать все эти увлечения. Он с симпатией отнесся к моим тогдашним, весьма разрозненным, увлечениям и всячески поощрял интерес к истории права и к истории политических учений – то есть то, что позволяло плодотворно соединять три основных области моих интересов: истории, философии и права.
В этом смысле все мои последующие интеллектуальные телодвижения в дисциплинарном плане были попыткой объединить, совместить три моих базовых интереса: интерес к истории, к праву, к философии и вообще к общественной мысли.
Поэтому, с одной стороны, если судить по формальному рубрикатору, то в моих научных интересах происходили подвижки, но, по большому счету, принципиальной смены не было. Я все время занимаюсь одним и тем же, но с разными акцентами, то чуть больше в одну сторону, то чуть больше в другую.
Мне интересно, как устроена интеллектуальная коммуникация, как идеи функционируют в общественной среде, как они обсуждаются и взаимодействуют с другими идеями.
В этом плане мне до сих пор интересно то, что шаблонно-выспренно в XIX веке на журнальном жаргоне именовали «вечными мыслями», «вечными идеями»: мне всегда было интересно, напротив, не «вечное», а временное – как вроде бы в одни и те же слова, в одни и те же фразы вкладывают совершенно разное содержание.
Например, когда говорят о западноевропейском средневековом христианстве, то хочется спросить, а что в этот момент понимается под христианством. Что значит быть христианином, например, в XII веке? В XVIII веке? Что значит быть православным, например, для русского помещика XVIII века? Для крестьянина XIX века? Или для нас сейчас? Это совсем разные и подчас расходящиеся вещи, хотя вроде бы и там, и там, и там мы говорим о христианстве. Но, оказывается, все это совершенно разное.
– А можете привести пример, как это воспринималось раньше и как сейчас?
– Я бы сказал, что это тема для огромного отдельного разговора, это безумно интересно. В частности, тот, кто этим занимается феноменологически – это Константин Антонов и тот круг, который связан с ним, с Православным Свято-Тихоновским университетом, современные исследователи философии религии, русского XIX века. На мой взгляд, у Константина Михайловича есть очень красивая мысль, которую можно привести именно как пример различия. О том, что на протяжении первой половины XIX века мы наблюдаем, как расходятся язык Церкви, с которым она обращается к аудитории, и язык образованного общества. Причем речь идет не о том, что они говорят о разном, речь идет о том, что они, в принципе, говорят по-разному.
Если угодно, в Церкви не происходит того изменения языка, которое происходит в светском обществе, в языке журналов, в языке образованного общества. В результате, когда говорят выходцы из духовных академий, они говорят, возможно, очень точно и очень верно, но на том языке, который другие не слышат.
Соответственно, когда те же самые славянофилы (я здесь обращаюсь к мысли Константина Антонова) начинают говорить о светском богословии, когда они стремятся сделать свое, то их отторжение от Духовной академии связано не только с тем, что они не согласны с чем-то конкретным, сколько с тем, что им кажется, что это всё слова. Аналогична во многом и реакция духовных кругов – это реакция в значительной степени обусловленная разной культурной средой: между двумя сторонами происходит катастрофическое недопонимание, они говорят на разных языках.

Вера становится предметом индивидуального выбора
– А когда это непонимание возникло?
– Если мы посмотрим на XVIII век, то увидим, что это одно культурное пространство, здесь активными деятелями являются выходцы из духовной среды, и стены здесь еще нет. Во второй половине XIX века, чтобы оказаться в современности, необходимо отринуть свое прошлое: ты должен уйти из семинарии, порвать со своим прошлым, или, по крайней мере, ты должен во многом отдалиться от него.
Порвать со своим прошлым – я, конечно, преувеличил, потому что есть совершенно замечательная работа о поповичах, где прослежено, что с ними происходило: это недавно вышедшая весьма талантливая работа Лори Манчестер, «Поповичи в миру»… Сами выходцы, беглецы из духовного сословия, оценивая впоследствии свой опыт, рассказывали, как они помещали себя в иной культурный контекст. И там разговор идет о гораздо более сложных моделях поведения.
Соответственно, для XIX века одна из важных проблем – это проблема второй христианизации, проблема перехода к индивидуальному исповеданию. В это время вопрос «Почему мы – христиане» сменяется «Почему я – христианин? Как мне быть христианином?».
То есть возникает в качестве массовой проблема, как соединить те принципы и те представления, которые человек теоретически принимает, но теперь он их интроецирует уже как свои собственные, личные – не как абстрактные принципы, которые спокойно покоятся себе в области абстракций, а как то, что должно пронизывать всю повседневность: как примирить эти принципы, теоретические убеждения – с принятыми практиками поведения.
Как в жизни можно быть православным, будучи, например, гвардейским офицером? Это вопрос, который для предшествующего типа религиозного сознания ставился лишь в очень редких, индивидуальных случаях. Но в XIX веке видно, что этот и подобные вопросы стали актуальными, все пришло в движение. Можно сказать, что в каждую эпоху меняются не только и не столько ответы, сколько меняются сами линии постановки вопроса, появляются новые противопоставления. Поэтому возникает такой эффект смешения, когда в разное время вроде бы используют одни и те же слова, но эти слова теперь выражают совсем другое.
– Получается, современной церкви стало гораздо сложнее, ей приходится работать с людьми на индивидуальном уровне, а не с массой, как раньше.
– Да. Я бы сказал, что здесь мы говорим именно о церкви в социальном смысле, церкви с маленькой буквы. Более того, я бы подчеркнул, что сама индивидуализация – это тоже некое обобщение. По мере того, как мы начинаем приглядываться к деталям, становится понятно, что индивидуализация отношения к религии стала актуальной преимущественно для образованных слоев в XIX веке, а в XX веке становится актуальной для всех. Вера становится предметом индивидуального выбора. Даже если она мною унаследована от родителей, я в любом случае должен дать себе отчет, почему я в ней остаюсь?
В этом смысле для того же самого крестьянина XVIII века вопрос так не ставился. Если ставился для кого-то, то это был уникум. А вот человеку XX века уже необходимо давать ответ, причем ответ направлен не только на изменение своей веры, но и на сохранение. Даже если я просто пребываю в прежнем положении, я должен для себя артикулировать, почему именно так? Этот ответ я должен дать себе самому, и самое главное, что этот ответ должен быть не просто риторически приемлемым, а внутренне убедительным.
– К чему, вам кажется, это ведет? От массовости – к индивидуальности, а затем? Что будет через 100 лет с религией, с индивидуальной верой?
– Не знаю. Мне очень сложно делать предсказания. Я не сомневаюсь, что и религия, и вера в Бога будут сохраняться. В этом смысле тут вопроса нет. Просто если мы рассуждаем об этом в рамках христианства, то легко видеть, что на протяжении двухтысячелетней истории – это постоянно меняющийся ответ, это постоянно меняющаяся истина. И в такой перспективе очень трудно говорить, потому что 100 лет – это очень близко от нас. Мы видим действительно долговременную тенденцию, и часто то, что нам кажется важным, бросающимся в глаза, является на самом деле второстепенным или лишь элементом гораздо более важных вещей.

В социальных сетях все готовы к конфликту без повода
– Что вам как мыслящему человеку дало появление социальных сетей, Интернета?
– Прежде всего, отклики на мои высказывания и книги. Они дают видение разнообразия. Это много раз проговаривалось, но мне кажется, это очень важная вещь. В социальных сетях каждый выстраивает свою собственную политику и выстраивает свой собственный способ обозрения. Я хорошо понимаю тех, кто создает для себя комфортную среду общения – общается именно с теми, кто ему глубоко приятен, с небольшим кругом друзей и знакомых, для кого это такое пространство обсуждения в своем кругу.
Для меня социальные сети – зачастую прямо противоположный инструмент: это способ слышать голоса тех людей, которых я наверняка не услышал бы, если б находился в своем «естественном» круге общения. Facebook предоставляет возможность, мало того, что слышать мнения людей из разных частей страны и планеты, но еще и слышать массу голосов, заведомо отсутствующих в твоем круге общения хотя бы потому, что с этими людьми ты не сможешь долго лично общаться.
– Вы когда-нибудь блокируете своих читателей в соцсетях, может быть, за какие-то радикальные позиции?
– Я, пожалуй, блокирую в исключительно редких случаях, и то надо очень постараться. Я предпочитаю банить только в том случае, когда уже напрямую оскорбляют, причем не меня, а других френдов. Но я очень боюсь принимать это решение, я очень боюсь очистить ленту от людей, мыслящих по-иному. Я очень боюсь создать такую комфортную позицию, когда ничто не будет меня раздражать, когда там будут только устраивающие меня взгляды, только разделяемые мною позиции, когда мы будем спорить лишь о запятых, либо по конкретному ситуативному поводу, потому что в целом мы во всем согласны.
Мне очень важно, чтобы как раз и в целом этого согласия не было. Еще раз подчеркну, это совсем редкие случаи. Если совсем уж с перехлестом. В этом плане, даже если два крепко поссорившихся френда выясняют отношения между собой, то это их право. В крайнем случае, пускай они взаимно друг друга забанят.
Я думал, что пик взаимной агрессивности и взаимного раздражения 2014 года трудно превзойти, но события последних месяцев меня удивляют.
Мне кажется, что степень раздражения, желания пойти на конфликт сейчас сильна как никогда. Сегодня в социальных сетях преобладает именно готовность к конфликту при отсутствии повода к нему.
Возникают очень неприятные казусы, которые приходится многократно наблюдать, когда стороны пользуются случайным поводом порвать отношения друг с другом. Когда какой-то совершенно случайный тезис, какая-то случайная формулировка, которая, в принципе, не привлекает особенного внимания, вдруг превращается в предмет для выяснения отношений, для очень глубоких ссор и конфликтов.
В этом смысле желание конфликта, готовность к конфликту гораздо больше, чем наличествующий повод – и повод лишь ищется. Соответственно, чувствуется постоянное напряжение, готовое выйти на поверхность, когда найдется подходящий для всех повод, когда его не надо будет искать.
– Идет холодная гражданская война?
– Я бы не преувеличивал, потому что, если бы действительно шла гражданская война, мы бы не могли ее не заметить. Сейчас, слава Богу, мы умудряемся ее замечать лишь благодаря Facebook.
В Facebook с его функцией говорения зачастую собеседник оказывается в ситуации, когда он не может или не считает возможным для себя не заметить высказывание. У Facebook есть черта – он способствует речам «к городу и миру», обращенным ко всем. Стало быть, всегда находятся те, кому эти слова не предназначены.
Более того, он одновременно способствует обращению к городу и миру, при этом сохраняя некую индивидуальную интонацию. Возникает такое непривычное состояние одновременно и публичной, и частной речи, и непонятно, где проходит граница между ними. Я могу сказать, что это мое частное пространство, я высказываю исключительно свое, даже не просто частное мнение, а частное чувство.

– Да, но чувства, ирония и юмор часто через Интернет не считываются, а высказывание воспринимается как более жесткое и категоричное, чем автор, может быть, хотел.
– Да, и при этом получается, что оно все равно обращено к кругу лиц, как тебе лично знакомых по самым разным контекстам, так и незнакомых.
– Меня огорчают высказывания в том же Фейсбуке, когда кто-то обобщает и говорит что-то на тему «либералы – они все такие», и дальше приводится какая-то одиозная цитата, хотя либералы бывают очень разные. Возможно, когда вы пишете что-то негативное про либералов, то все это надо читать в ироничном ключе, но слышится как некий приговор.
– В последние годы я стараюсь сам термин «либералы» не использовать, хотя, на мой взгляд, это тоже огромная проблема, потому что у нас получается… Я опять сейчас буду генерализировать, возможно, предельно необоснованно, но тем не менее. Если говорить на уровне таких условных генерализаций, то получается, что, с одной стороны, есть какая-то общность людей достаточно узнаваемых взглядов. Есть какое-то опознание «свой-чужой» и «примерно свои».
С другой стороны, как называть эту общность? Хорошо, за «либералом» считывается другое, понятно, что это не работает. Хорошо, а как иначе? Более того, ведь каждая сторона всегда использует ровно один прием.
У замечательного Евгения Губницкого, переводчика, не так давно было яркое замечание об особенностях того, как мы простраиваем образ своей группы и как воспринимаем других. Что мы всегда делаем в публичной полемике, если мы корректны, осторожны и так далее, и так далее? В отношении своих мы всегда понимаем, что свои – они разные, свои совсем многообразные. Мы понимаем, что есть и отпетые, но они не характеризуют нас. Мы всегда делаем поправку на то, что, если даже он, в принципе, не отпетый, но есть какие-то крайние вы
сказывания, крайние позиции, то даже ему они в целом не свойственны и так далее.
Других же мы представляем себе как совокупность, в которой мы не только не различаем оттенков, но и предпочитаем обращать внимание на крайности, на яркое, на выделяющееся. Если мы желаем с ними бороться, мы, как правило, выбираем приверженцев крайних взглядов и так далее.
В результате малых поправок получается, что мы серией таких легких и, я подчеркну, совершенно незлонамеренных движений создаем ситуацию, когда разница между двумя позициями в один момент становится очевидной в разы. Когда оказывается, что мы сложные, мы многообразные и, разумеется, нами руководит принцип реальности, а наши оппоненты – совершенно наоборот. Еще раз подчеркну, что это все делается добросовестным образом, даже если мы не нацелены на сознательные передержки.

Мы стремимся поделить людей на наших и не наших
– Вы подробно изучали историю русской мысли XIX века. Когда вы читаете современные дискуссии между либералами и консерваторами, между людьми разных убеждений, видите ли вы сейчас отголоски споров между славянофилами и западниками?
– И да, и нет – вот так бы я сказал. Да, отголоски есть, только я уточнил бы, какие именно. Это отголоски общего языка. Мы до сих пор пользуемся тем языком публичной речи, языком обсуждения, который был создан русскими интеллектуалами в XIX веке. Другое дело, что мы вкладываем в него зачастую другие смыслы. Поскольку речь шла об отголосках, да, безусловно, они есть. Другое дело, что возникает иллюзия, что перед нами не отголоски, а тот же самый вечно повторяющийся спор.
– Развивающийся по спирали.
– Конечно, мы во многом используем те же слова, но как только мы начинаем обращаться к истории, мы видим, что смыслы, которые мы пакуем в эти слова, они другие. Об этом шла речь в самом начале разговора. В данном случае возникает эффект ложного узнавания. Когда мы обращаемся к текстам XIX века по накатанной, что происходит? Мы стремимся поделить людей на наших и не наших, понять, кто там был в прошлом, кого можно построить в нашу шеренгу, кого в другую? Хотя на самом деле они воевали в других войнах, играли в другие игры, обсуждали другие проблемы. Покойников, конечно, можно рекрутировать в нашу армию, но все-таки важно понимать, что рекрутинг делаем мы. В этом плане единомышленников в прошлом мы не находим, а создаем.
– Но разве глобально вопросы изменились? Что делать? Кто виноват? Россия – это Европа или не Европа? Насколько она Азия-Европа? Или они по-другому думали?
– Во многом они думали по-другому. Более того, если мы посмотрим на славянофилов, то да, они размышляют в рамках «мировых эпох», для них за германским миром должен прийти мир славянский. В этом смысле это такая европейская логика.
Другими словами, если совсем коротко определять славянофильскую позицию, то, на их взгляд, если мы желаем быть историческим народом, то мы можем им быть только как русские. В этом смысле русские могут быть историческим народом только в качестве русских, просто иначе не получится.
Соответственно, не получится стать европейцем в том смысле, что европейцев вообще нет. Есть голландцы, бельгийцы, французы и так далее. Поэтому желание из русских превратиться в европейцев – это странное желание. В этом смысле европейцем ты можешь быть, только будучи не в Европе, и в таком ракурсе желание быть европейцем – это как раз демонстрация разрыва, демонстрация непричастности. Мол, я желаю в неевропейском пространстве, в неевропейской среде быть представителем европейской культуры.
Если ты считаешь, что находишься в общемировом пространстве (а для славянофилов, как и в целом для людей XIX века, оно практически совпадает с европейским), то как-то странно себя определять европейцем, ты все-таки будешь себя определять как-то локальнее, как-то конкретнее. Соответственно, ты будешь относиться уже не к европейской культуре в целом, а ты будешь полемизировать с чем-то гораздо более конкретным.
Поэтому да, для славянофилов очень важно понятие Запада, но при этом важно отметить, что это Запад религиозный. В этом смысле граница все-таки чаще проходит не по логике «Запад-Восток», а по логике «Католический Рим – Православие» с дальнейшими разграничениями. Напомню вам такой классический славянофильский излюбленный мотив – это представление о том, что России особенно близка Англия.
В этом смысле, когда речь идет о «Западе», то из «Запада», нередко исключается, например, Англия – у нее свое особенное место, которое требует оговорок. Когда мы начинаем конкретизировать, что такое Запад, о котором говорит Герцен, оказывается, что в этот Запад не входят Италия и Испания. Оказывается, что тот Запад, который вроде бы считается Герценом Западом, – это Франция, Германия и в какой-то степени Англия.

– США еще тогда тоже не играли такой роли.
– Да, США здесь имеют особый статус – так, для Киреевского в начале 1830-х есть два новых народа, русские и американцы, которые могут выступить носителями новых начал, но преимущество отдается русским, поскольку американцы скованы односторонностью англосаксонского образования. Поэтому можно сказать, что можно видеть, как возникает привычная нам схема – как споры западников и славянофилов, так и последующие дискуссии связаны с этим жестким размежеванием, но в привычном для нас виде мы его у них не найдем.
Мы ведь его вообще не найдем в любых спорах любых людей. Мы его найдем уже в варианте не предметного серьезного разговора, мы его сможем отыскать только в предельно идеологизированных упрощенных концепциях. Здесь, да, получается, когда мы начинаем все больше упрощать, все больше схематизировать, у нас такие схемы могут срастаться на выходе.
– Как бы вы могли описать позицию западников?
– Во-первых, западников западниками называли их оппоненты, тут произошло такое перекрестное называние. Во-вторых, смотря кого брать в качестве западников. Если совсем коротко, то западнический лагерь – это такие фигуры, как Виссарион Григорьевич Белинский, Тимофей Николаевич Грановский. Из младшего поколения, разумеется, Константин Дмитриевич Кавелин. Тут примечательно то, что ими Россия мыслится как часть того самого Запада, по единству мировой истории.
Если угодно, здесь разрыв позиции заключается в том, что для славянофилов речь идет о новом слове, о новом принципе, а для западников речь идет о возможности новой модуляции уже существующих принципов. Более существенное политическое разграничение заключается в том, что для славянофилов их оптика – это оптика национального строительства, а для западников – это имперская оптика .
Кстати, в нашем современном и очень болезненном контексте здесь примечательно то, что в рамках своего национального проекта славянофилы гораздо более, не просто терпимо относились, а оказывали зачастую прямую поддержку и содействие, например, украинофилам. В свою очередь, для западников 1840-х годов украинофильское движение совершенно неприемлемо.
В этом смысле гневные антиукраинские филиппики в XIX веке шли первоначально как раз из лагеря западников, а не славянофилов, для последних же это вполне узнаваемые и родные вещи. Поэтому здесь любопытно посмотреть, как меняется историческое противостояние. Там, где мы вроде бы из наших сегодняшних разграничений готовы увидеть привычную схему, мы видим, что в ситуации 40-х – 50-х годов все происходило едва ли не с точностью до наоборот.
– Можно ли сказать, что после революции 1917 года эти споры не закончились, а лишь прервались на 70 лет, а вы сейчас пытаетесь очистить эти дискуссии от современных стереотипов?
– Я бы так уж пафосно задачу не ставил. Тут все гораздо проще и конкретнее. Во-первых, каждое время приносит много вопросов, которые мы обращаем к прошлому. В этом смысле изменившийся исторический опыт, изменившееся понимание XIX века дает не ответы, отменяющие прежние, а ставит новые вопросы и, соответственно, дает новые ответы уже на другие вопросы. В прежних формулировках вдруг слышится то, что раньше не было расслышано, а может, наш опыт делает нас более чувствительными к прежним смыслам? В этом же плане получается, что мы всегда говорим от нашего времени. Наш опыт и наша ситуация определяют те вопросы, которые адресуются к прошлому.
Самый яркий пример здесь из совсем другой области – это антиковедение. Новые исследования и новые ответы не отменяют предыдущих исследований, но ставят перед нами другой вопрос – например, для Ростовцева после мировой войны и революции 1917 года это задача понять общество и хозяйство Римской империи как очень масштабный, пафосный и сильно работающий исторический проект.
В любой исторической работе, как только она выходит за пределы технического, всегда встречается это слово – в затертом академическом языке оно называется актуальностью. Понятно, что, связанные академическими канонами, мы все нервно реагируем на вопрос об актуальности исследования, но, если говорить о живом содержании, это как раз о том, что нас здесь и сейчас побуждает задавать эти вопросы прошлому.
Предыдущие ответы не стали хуже, но они начинают нам казаться неактуальными. Вопросы, может, и хорошие, и ответы прекрасные, но это вопросы, которые нам не особенно интересны сейчас. Может, это наша проблема, что они перестали быть нам интересны. Это, может быть, с нами очень плохо обстоят дела, что теперь это ушло из фокуса.

Андрей Тесля. Фото: Ирина Фастовец
Консерватизм – это осознание хрупкости существующего
– Областью вашего научного интереса является консервативная и реакционная доктрина XVIII-XIX веков. С чем связан такой интерес к этим доктринам – именно консервативной и реакционной? Что вы там ищете? Какие ответы находите?
– Меня у консерваторов и реакционеров интересовало исходно одно – это то, что, мне казалось и кажется сейчас, они попросту мало изучены. Это та часть русской интеллектуальной жизни, которая, с одной стороны, была слабо изучена, а во-вторых, без нее нельзя понять целое. В этом плане, даже если вас не интересуют конкретно консерваторы, если мы желаем просто понять интеллектуальное пространство и дискуссии XIX века, то нам это необходимо, еще раз говорю, независимо от наших предпочтений, чтобы увидеть, как именно велся спор, как именно был устроен разговор. Так что даже в рамках интереса к русскому XIX веку, чтобы собрать целое, необходимо восстановить весь контекст дискуссий тех лет.
Теперь более личный ответ. Русские консерваторы мне интересны тем, что они во многом пытаются пробивать свой путь, они мыслят оригинально. В этом плане русский либерализм, опять же я позволю себе оценочное суждение, в подавляющей массе скучен. Он скучен, по крайней мере, для меня, потому что зачастую это просто повторение существующих позиций. Русские либералы – это глашатаи того, что сказали другие белые люди, это такой правильный пересказ всего хорошего.
Возможно, что в этих размышлениях на самом деле все хорошо и прекрасно. Возможно, все, что говорится – совершенно верно. Но меня интересует собственная мысль – скорее всего, неверная, но собственная. Пускай вкривь и вкось пошли, но сами. Здесь русские консерваторы представляют собой очень оригинальную картину, они почти все интересные люди, они почти все живут наособицу, они не поют общих песен. Они все не общей мысли люди. Получается, что даже консерваторы второго плана – это попытка изобрести какую-то интересную конструкцию (даже если мы думаем, что знаем, что они пытаются изобрести велосипед).
– Необычный ход мысли! Получается, что вас не интересует сам велосипед, быстро ли он ездит или насколько он надежен, а стоят ли на нем наши российские колеса? Простите, я немножко утрирую.
– Да, если угодно. Мне кажется, что, с точки зрения интеллектуальной истории, не так интересно выслушивать пересказы чужих суждений. Если нас интересуют сами эти суждения, то давайте обращаться к первоисточнику. Это во-первых. На мой взгляд, это гораздо более логичный подход. Во-вторых, основной вопрос, который задает консервативная мысль, это вопрос о том, что – ну, окей, допустим, с общей схемой, с идеалами и чаяниями мы определились, мы за все хорошее. Вопрос в другом, как вот здесь, на месте эти схемы будут работать?
В этом плане самый яркий пример дискуссии консерваторов с либерализмом – это Константин Петрович Победоносцев, создавший «Московский сборник», – потрясающе интересный по конструкции текст. По большей части, Победоносцев говорит не своим голосом, он собирает чужие тексты, причем тексты зачастую персонажей, относительно которых трудно ожидать, что Победоносцев их поместит, и это опять же значимо для составителя. Он помещает туда не просто чужие голоса, а голоса тех, кто важен для его оппонентов. Это тот же самый Герберт Спенсер, это авторы, которые не принадлежат к консервативному кругу.
Основной посыл «Московского сборника» – консервативный. Он заключается в следующем. Традиционно мы сопоставляем Россию с Западом. Но Победоносцев говорит, что давайте сравнивать реальную Россию не с воображаемым Западом, а с реальным Западом, посмотрим, как это там устроено.
Речь идет не о том, как нам всем надо жить, а вопрос в том, как это будет выглядеть, если прекрасные принципы с Запада мы перенесем в Россию, ведь они наверняка будут работать не как в учебнике, а с учетом наших условий. Соответственно, какой будет их эффект?
Консервативный вопрос еще во многом связан с признанием огромной ценности существующего. О непорядках существующего можно говорить сколько угодно, но у него есть один огромный плюс – оно просто существует. Мы как-то существуем в этой ситуации, нам это удается. У альтернативы всего этого всегда есть один огромный минус – этой альтернативы еще нет. Соответственно, мы сравниваем всегда реальность с идеалом. Большой вопрос, что будет, когда мы действительно попытаемся реализовать эту самую альтернативу.
– Дело в том, что России не дали шанса реализовать эту перспективу. У нас почти не было ни нормальных выборов, ни десятилетий нормальной экономики, десятилетий без войны. Консерваторы спорят: давайте оставим все как есть, у нас в России все ценно. Об этом имело бы смысл говорить, если бы мы хоть раз попробовали жить по-европейски, и уже этот проект потерпел бы неудачу.
– Здесь стоит конкретизировать консервативную позицию. Начнем с того, что, во-первых, консерватизм, как и либерализм, существует уже пару веков. И в нем существует масса самых разных позиций. Причем, когда речь идет о том, что есть консервативные взгляды Валуева и консервативные взгляды Победоносцева, и мы говорим, что еще и Аксаков – консерватор, то возникает вопрос: а в чем они согласны? Если мы еще нескольких консерваторов подтянем со стороны, то перед нами будет почти вселенная смыслов. Мы найдем самые разные варианты ответов.
Один из вариантов консервативной трактовки заключается не в том, что существующее прекрасно. О неладности существующего можно говорить сколько угодно.
Речь идет о том, что любое изменение должно опираться на принцип ответственности, на то, чтобы понимать: если мы что-то меняем, то главное – не ухудшить. В этом состоит основной консервативный посыл, а не в том, что существующее – хорошо.
Есть старый анекдот, я его очень люблю приводить, поскольку он хорошо выражает консервативную позицию. Когда пессимист глядит на ситуацию и говорит: «Всё, хуже уже не будет». Влетает оптимист и говорит: «Будет, будет». В этом анекдоте в роли оптимиста выступают консерваторы. Они всегда уверены, что какой бы ужасной ни была текущая ситуация, всегда возможен вариант, когда будет еще хуже. Поэтому на предложение: «Давайте что-то менять, потому что хуже уже наверняка не будет», консерватор скажет: «У вас с воображением плохо».

Андрей Тесля. Фото: Ирина Фастовец
– Но как же тогда осуществлять перемены?
– Отсюда вытекает, что если мы что-то меняем, то мы должны по возможности создавать условия, когда можно дать задний ход или компенсировать потери, если нужно. Отсюда традиционная консервативная логика, что перемены должны вводиться медленно, они должны вводиться сначала в каком-то ограниченном варианте. Консерватизм – это, скорее, утверждение о том, что у существующего есть ценность уже в силу того, что оно существующее, и нам всегда есть что терять. Это не означает, что нам нечего приобретать, это означает, что мы не начинаем с чистого листа, и существующее хрупко.
Мы не ценим, не понимаем существующее именно потому, что оно нам кажется столь же естественным, как воздух. В этом смысле консерватизм – это осознание хрупкости. Все, что существует, вся наша социальная, культурная ткань – очень тонка. Взгляд активного преобразователя заключается в том, что мы всегда что-то можем изменить, в предположении, что эта ткань сохранится. В этом смысле консерватизм гораздо более тревожен, он говорит о том, что если была бы в этом уверенность, то было бы замечательно, но в этом уверенности нет, и все может разлезться, все очень хрупко.
Можно сказать, что ключевая заповедь консерватизма: «Не навреди, не уничтожь того, что есть».
Да, можно говорить, что существующее – плохо и недостаточно. Можно пытаться его улучшить, но главное – понимать, что все изменения по возможности должны не травмировать, не уничтожать существующую среду, потому что создать ее заново, возможно, не получится. Снежная лавина сходит очень быстро.
– Можно ли сказать, что реакционизм – это крайняя степень консерватизма?
– Не совсем. Это может быть как консерватизм, так и то, что называют радикализмом или революцией наоборот. Консерватизм предполагает сохранение существующего, а реакция предполагает противоположное. Реакционеры совершенно согласны с оппонентами с противоположной стороны, что существующее никуда не годится. Только одни утверждают, что нужно в одну сторону бежать, а другие – в противоположную, но они сходятся в тезисе о том, что в наличном порядке нет никакой ценности. Консерваторы – как раз наоборот: утверждают, что да, куда бы мы ни двигались, хоть пытаясь отмотать все назад, хоть двинуться вперед – нам всегда есть что сохранять. Это ключевая позиция консерватизма.
– Вы – консерватор?
– Да. Консерватизм исходит из понимания хрупкости существующего. Наш российский социальный опыт учит, насколько тонкой может оказаться социальная ткань и ткань культурная. Поэтому с любыми критическими упреками в адрес существующего я готов согласиться сразу, меня гораздо больше интересует другое – при попытках улучшить достаточно ли учитывается то, что сохранится что-то живое?
Я подчеркну, что в практике действий радикализм, в значительной степени, у нас, как правило, демонстрирует власть.
Консерватизм – это же не поддержка и не оправдание любой существующей власти, это признание того, что власть сама по себе ценна.
Опять же, одна из ключевых консервативных ценностей – что всякая власть, заметьте, здесь ключевое слово «всякая», какой угодно набор упреков можно перечислить, но всякая власть – это уже благо, потому что всегда есть варианты отсутствия власти.
– Тут еще, я так понимаю, это параллель с «всякая власть от Бога», да? Очень похоже.
– Конечно.
– На это либералы ответят, что надо сначала посмотреть, что эта власть делает, насколько она подотчетна народу и так далее.
– Не сказал бы. Опять же если говорить об интеллектуальном опыте и западном, и центральноевропейском, и русском, то… Вы меня перед этим спросили, консерватор ли я? Да, конечно, только дальше надо вводить оттенки: то ли я – консервативный либерал, то ли либеральный консерватор, что выступает в качестве первенствующего? Но в этом смысле либерализм как преобладающая идеология предполагает те или иные сочетания с консерватизмом, во всяком случае он их не исключает.
Консервативная позиция всегда склонна преувеличивать риски социальных преобразований. Точно так же, как противоположная сторона склонна их недооценивать и говорить, что в любом случае надо что-то менять, все равно что-то изменится к лучшему. Консервативная позиция всегда предполагает, что от таких преобразований в первую очередь мы ждем дурного. А дальше можно говорить об оттенках.
Опять же если брать хрестоматийный образ XIX века, то для того, чтобы в обществе существовала нормальная дискуссия, необходимо, чтобы были и либералы, и консерваторы. В конце концов, если консервативная логика сама по себе на автопилоте готова двигаться к варианту, что ничего менять не надо, то, соответственно, противоположная готова стимулировать изменения.
На этом самом противоборстве, на этой самой полемике как раз и определяется, по каким изменениям есть консенсус, а какие вызывают слишком большую тревогу. В чем-то консерватора можно переубедить, показав, что какое-то планируемое действие, видимо, не несет опасности, здесь страхи не столь велики. А относительно других – нет, это слишком тревожащее, опасное для сохранности социальной ткани событие, и здесь компромисс вряд ли возможен.

Андрей Тесля. Фото: Ирина Фастовец
Мне интереснее понимать то время, чем действовать в нем
– Если представить себе, что есть машина времени, и вы бы переместились в XIX век, кем из русских мыслителей вы себя видите? Кем бы вы могли там быть: Герценом или Аксаковым? Видите ли вы себя на месте кого-нибудь из них?
– Нет, никоим образом. Все эти персонажи – деятели. Я все-таки занимаю позицию наблюдателя. Принципиально другое – они мне интересны, но мне интереснее понимать то время, чем действовать в нем. Мне лично очень важно ощущение дистанции, существующей между нами, поэтому никем из них я себя не мыслю.
Но Аксаков, пожалуй, наиболее близок мне из них всех. Я поясню, в каком плане. Не в плане конкретных положений, о которых я писал и в книге «Последний из “отцов”» и в статьях. Иван Аксаков представляется мне очень симпатичным человеком, как и большая часть славянофилов. В славянофилах, помимо многих других моментов, мне нравится то, что они очень хорошие люди.
– По сравнению с…
– Нет, зачем? Просто сами по себе. Это были очень добротные люди и очень хорошая среда, даже если вы не согласны с их взглядами… Ведь вам не обязательно соглашаться с политической позицией добродетельного человека, он сам по себе хорош.
– Имеется в виду, что не изменяли женам, не врали, не обманывали других?
– При чем тут жены?
– В личной жизни все было сложно?
– Да, как всегда. Все не настолько прекрасно, это все-таки были живые люди, из плоти и крови – кто-то не изменял, например, жене, другой – увы, оказывался любовником жены друга, если брать пример с женами. Скажем так, это были люди крепко живущие. В них была крепкость.
Они не святые, безусловно, но там, где они совершали проступки, где они грешили, они были способны к деятельному раскаянию, в этом они были сильны. Они действительно стремились быть добродетельными людьми. Они стремились не для кого-то, а для самих себя. У них, если угодно, практически не было работы на публику.
– Как шла работа над книгой об Аксакове? Работали ли вы в архивах? Откуда брали материалы? Есть ли какие-то уникальные материалы, которые ранее не были известны?
– Над книгой я работал достаточно долго. Спасибо президентским грантам, которые сделали эту работу возможной. Соответственно, довольно значительная часть работы шла в архивах. В первую очередь – в архиве Пушкинского дома Института русской литературы, в книге использованы многие ранее не опубликованные материалы, причем в этом случае я старался их обильно цитировать.
Мне казалось, что это лучше, чем давать нарезку и пересказ своими словами. Мелко покрошить цитаты – это можно, но, на мой взгляд – это убийственно. Тексты того времени должны сохранить свое дыхание. Может быть, я этим несколько злоупотреблял в книге, но это было вполне сознательное решение – дать возможность как можно больше слышать голос Аксакова. В книге опубликованы, на мой взгляд, интереснейшие письма – это письма Ивана Аксакова к Михаилу Кояловичу, ключевой фигуре западнорусизма, причем переписка охватывает более 20 лет.
Как раз говоря о характере славянофилов, я старался предоставить возможность говорить им самим за себя, потому что, мне кажется, так передается особенность натуры этих людей. Например, в приложении к книге есть довольно небольшой фрагмент – это письма Ивана Аксакова своей невесте Анне Федоровне Тютчевой, дочери поэта. Анне Федоровне он пишет чудесные письма, где объясняет свой взгляд на будущую совместную жизнь. На то, какой должна быть будущая жена, какой должен быть муж. Это очень трогательные тексты.
– А ответы даны?
– Увы, нет. Письма трогательные, потому что он, с одной стороны, пытается говорить о должной позиции – он должен, а с другой стороны – ощущается за всем этим очень бережное и теплое чувство, поэтому он не выдерживает своей позиции, как дающего наставления, он вдруг переходит на гораздо более теплый и лиричный слог. Мне кажется, это очень аксаковская черта: у него, с одной стороны, есть представление о том, как он должен говорить, что он должен сделать, а с другой стороны, сказывается эта человеческая добротность.
Еще раз хочу подчеркнуть, что это не противопоставление одних другим. Славянофилы были узким кружком, и у них было уникальное положение – в этот круг другие люди не могли войти, это был очень тесно связанный между собой круг общения.
Западники в целом были средой гораздо более разреженной, имевшей гораздо менее плотную сеть контактов между собой, они не столь сплетены друг с другом. Невозможно охарактеризовать всех членов редакции журнала, сказать, что они имели общие черты жизненного стиля или чего-то подобного на протяжении десятилетий. Это не только невозможно, это совершенно избыточно, потому что коммуникация людей осуществлялась по какому-то конкретному поводу, они сходились в какой-то конкретной точке. В случае со славянофилами совершенно иначе. Это была во многом совместно проживаемая жизнь в тесном общении.
– Весной вышел сборник статей Александра Герцена из серии «Перекрестки русской мысли». Можете ли рассказать об этой серии и, в частности, об этом первом сборнике?
– Да. Это замечательный проект. Я надеюсь, что у него будет развитие. Это проект издательства «РИПОЛ-Классик». Его цель – обращаясь к достаточно широкому кругу авторов, представить русскую общественную мысль XIX века. Причем тексты как известные, так и не особенно знакомые неспециалистам. Понятно, что для научного круга никаких нововведений там не будет, а для широкого читателя это может представлять интерес. Задача проекта – показать многогранность русской мысли XIX века и переклички интеллектуального движения.
По предложению издательства я написал вступительные статьи к этим сборникам и определил содержание книг. Вступительные статьи – довольно большие по объему. В первой книге статья – компактная, обзорная, последующие тексты будут более объемными. Задача вводных статей – показать авторов в контексте споров, не в контексте эпохи, это не биографические очерки, а показать их в контексте общественной дискуссии своего времени.
Из задуманных томов Герцен был выбран в качестве первого автора именно потому, что его фигура находится на перекрестье и западничества, и славянофильства. Его зрелые воззрения – попытка осуществить их синтез, поэтому включенные в сборник тексты как раз демонстрируют его теоретическую позицию в эволюции с конца 1840-х до последнего года жизни Герцена. Вполне предсказуемо, что в скором времени выйдут из печати тексты Чаадаева.
Затем гораздо менее предсказуемый и, на мой взгляд, совершенно незаслуженно недослышанный, недопрочитанный Николай Полевой. Далее публицистика Николая Костомарова. Если серия будет жить, то я надеюсь, что будут изданы и другие авторы… Задача здесь, с одной стороны, представлять с новых ракурсов знакомые фигуры, а с другой стороны, не очень знакомые для широкого автора персонажи, или знакомые не с этой стороны. Если брать фигуру Николая Ивановича Костомарова, то все мы его читали. Но Костомаров как публицист, Костомаров как участник многолетней политической полемики в Российской империи – это не самая известная его ипостась. Мне кажется, что это очень интересно.
– Не собираетесь ли вы создать учебник общественной мысли XIX века, чтобы как-то представить людям взгляды разных сторон?
– Да. Есть же хорошая поговорка: хочешь рассмешить Бога, расскажи Ему о своих планах. Я очень надеюсь, что это будет, но лучше об этом говорить, когда такая книга появится.

Мы без причины пугаемся слова «русский»
– Меня, с одной стороны, восхищает, с другой стороны, пугает то, что вы не боитесь использовать слово «русский» в текстах, книгах и даже на обложке. Сейчас слово «русский» часто заменяется словом «российский». Как вы различаете ситуации, когда нужно писать «русский», а когда «российский»?
– Дело в том, что обо всем накале страстей вокруг этих двух слов я узнал в достаточно зрелом возрасте. Это было довольно смешно, когда на одном из кафедральных семинаров или на небольшой конференции (то ли при окончании университета, то ли в начале обучения в аспирантуре) при обсуждении вдруг разгорелись споры по поводу того, можно ли говорить «история русской философии», или «история российской философии», или «история философии в России». И я помню свое изумление, когда оказалось, что это болезненный вопрос, потому что до этого времени слова «русская философия» я воспринимал как совершенно нейтральное высказывание.
Есть Россия, есть Германия. Книжка называется «История французской литературы» – понятно, история французской литературы. «История французской философии» – тоже понятно. Стало быть, в России как? «История русской философии». Где предмет для споров? Мне не приходило в голову видеть в этом националистические или какие-то другие представления. Мне кажется, что в любом слове можно прочесть все что угодно, но если мы говорим о России, если мы говорим о русской культуре, то я не понимаю, зачем отпрыгивать от этого слова, более того, в его современном значении?
Да, можно говорить, что в XVIII веке активно используется слово «российский», но это высокий слог.
Сейчас понятно, когда мы говорим о российском, мы говорим о гражданской принадлежности. Мы подчеркиваем юридический статус людей или организаций. Но когда мы говорим о культуре, то как-то странно определять культурную принадлежность по прописке.
Как-то странно включать в это культурное пространство только тех, кто родился в пределах нынешних географических границ, например. Или, предположим, ввести какой-то странный формальный критерий, который отсылает, скорее, к замечательному названию учебника по истории СССР. Помните, был такой для педагогических вузов «История СССР с древнейших времен»? Карта Советского Союза проецировалась на всю толщу тысячелетий.
Если мы хотим развлекаться дальше, то мы можем создать работу под названием «Интеллектуальная история в границах Российской Федерации» и по контуру карты всех, кого сюда занесло в какие бы то ни было времена, приписать. Но довольно очевидно, когда мы говорим об узком интеллектуальном пространстве XIX века, то мы не будем говорить, что это интеллектуальное пространство Российской империи.
Русские дебаты XIX века не являются синонимом дебатов в Российской империи, потому что в дебаты Российской империи будет, безусловно, входить польская публицистика. Это вполне работающее понятие. Когда мы пытаемся убрать слово «русский», рассказывая о спорах именно в русском культурном пространстве XIX века, то мне кажется, что мы, во-первых, без причины пугаемся слова, а во-вторых, мы утрачиваем часть смыслов, мы утрачиваем эти самые линии разграничения. Либо мы начинаем изобретать слова-заменители, потому что нам все равно нужно как-то описать интеллектуальное пространство, и мы начинаем использовать более обтекаемые формулировки.
Возможно, я не прав, но еще раз подчеркну, я не вижу в этом слове того, чего надлежит пугаться. Я легко могу себе представить опасения, которые связаны, например, с ростом националистических движений – это легко понять. Но в тот момент, когда начинают табуировать слово «русский», я испытываю приступ недоброжелательства, во мне просыпаются не самые добрые чувства, которые до этого момента я не ощущал… Порой говорят, что этого слова я должен избегать, именно для того, чтобы не провоцировать конфликт. Но именно в этот момент конфликт и начинает развертываться. Именно здесь, мне кажется, вырастают границы между людьми разных национальностей.

– Нужно различать юридические аспекты и какие-то сущностные?
– Конечно. Мы же легко понимаем, что человек русской культуры легко может быть гражданином любого другого государства, это разные вопросы. Точно так же, как гражданином России юридически может быть человек, который сам не соотносит себя с русской культурой, в этом самом по себе нет еще проблемы.
– Прекрасный японист пишет книги о Японии. Он уже опубликовал книги «Остаться японцем» и «Быть японцем». Сейчас пишет третью книгу в продолжение этой серии. Я спросила у него: «Не хотите ли вы написать книги «Быть русским» или «Остаться русским»?» Он говорит: «Я не настолько вчитан и не владею столькими источниками, хотя это было бы интересно». Не хотели бы вы написать книгу «Остаться русским», «Быть русским», чтобы показать людям, что такое быть русским в хорошем смысле?
– Нет, боюсь, что статус профессионального русского – это немножко не то.
– Мой вопрос связан с тем, что о вас порой пишут и определяют как русофила. Вы себя считаете русофилом?
– Да, если угодно. Я знаю, что это слово кого-то раздражает, хотя я не очень понимаю, почему. Не так давно в Варшаве как раз по этому поводу был разговор. Слово «русофил» очень сильно раздражало часть аудитории, и один из участников обсуждения в качестве варианта бросил мне такой вопрос: «Как вы можете использовать название “Русофил” для своего сайта? Ведь вы бы не стали публиковаться на сайте “Полонофил”?»
Я не очень понял вопрос, потому что лично для меня нет ни малейшей проблемы публиковаться на сайте с таким названием. Меня гораздо больше интересовало бы, чем он наполнен, в чем конкретно заключается это самое полонофильство. Возможно, при одном варианте интерпретации я не стал бы и близко подходить к подобному. Скажем, я не понимаю, чего здесь можно опасаться от слов «полонофильство» или «русофильство».
Кто я? Я, естественно, человек русской культуры. Я, естественно, человек русского пространства. Я целиком здесь. Да, на мой взгляд, это одна из нескольких великих культур, которые существуют. Подобных великих культур существует не так много. Поэтому понятно, что мы испытываем разные смешанные чувства по поводу нашей культуры, но странно не питать к ней теплых чувств, странно не любить свое родное.
Я помню, как Карамзин начинает «Историю государства Российского», где он говорит о том, что история государства Российского может представлять интерес и для других, но в ней есть скучные места. («Иноземцы могут пропустить скучное для них в нашей древней Истории; но добрые Россияне не обязаны ли иметь более терпения, следуя правилу государственной нравственности, которая ставит уважение к предкам в достоинство гражданину образованному?..» )
– Он же не написал «Историю государства Русского».
– Я об этом как раз говорил, что язык того времени – это высокий стиль в данном случае. «Русский» здесь – как обычное выражение, а если мы желаем приподнять, сказать о высоком, мы говорим о «российском». В современности такое употребление встречается редко. Кстати, это к тому, с чего разговор и начался – как движется смысл слов. Понятно, что он очень сильно изменился.
Карамзин в «Истории государства Российского» говорил, что для другого читателя там могут быть места скучные, но сердце русского читателя, помимо всего прочего, не может быть холодно к истории своего Отечества, потому что он в любом случае привязан к нему. Поэтому единственный упрек, который здесь возможен, состоит в том, что русофильство предполагает все-таки некую дистанцию.
Если мы пожелаем найти то, в чем здесь можно упрекнуть, то в этом самом дистанцировании. В этом смысле можно в качестве упрека сказать, что для человека русской культуры естественно любить русскую культуру. Поэтому зачем же здесь отдельно это проговаривать, не идет ли это по умолчанию? Но учитывая, что сама подобная артикуляция вызывает некое напряжение, видимо, это имеет смысл, раз так задевает. Значит, это какой-то значимый вопрос, потому что в противном случае здесь была спокойная и ровная реакция.
Февральская революция – это полная катастрофа
– В этом году много говорят о 1917 годе, о столетии двух революций. На ваш взгляд, какие уроки нам дают русские революции, что мы можем понять из этого 100-летнего опыта? Что не удалось Февральской революции?
– Февральская революция, как известно, удалась: государь подписал отречение, Временное правительство пришло к власти – все удалось.
– Ну как? Мы же хотели построить демократическую Российскую республику, а пришла большевистская…
– Я не знаю, кто хотел. Давайте уточним.
– Недавно мы беседовали с математиком Алексеем Сосинским, и его дед, эсер Виктор Чернов, первый и последний председатель Учредительного собрания, этого хотел.
– Февральская революция – это полная катастрофа. В этом смысле, когда мы говорим о феврале 1917 года, мы говорим о великой катастрофе, которая случилась с Россией, когда все пошло вразнос. Другое дело, что все пошло вразнос во многом благодаря предшествующей многолетней политике правительства. Был старый советский анекдот о том, что в связи с 50-летием Великой Октябрьской социалистической революции орден Октябрьской Революции вручается посмертно гражданину Н.А. Романову за выдающийся вклад в организацию революционной ситуации.
Представьте себе коллапс верховной власти в ситуации тяжелейшей мировой войны – в этом смысле неважно, как относиться к предшествующей власти и к чему бы то ни было, это действительно было катастрофой. Ничем хорошим эта история закончиться не могла. Другое дело, что ничем хорошим не могло закончиться и предшествующее во времени. Если говорить в целом, то общее впечатление о Российской империи, особенно с 80-х годов XIX века, – это поезд, пошедший под откос, который набирает скорость. Перед ним лишь один путь, стрелок больше нет.
– Где была точка бифуркации? В каком месте у России еще был момент выбора?
– Я не знаю. Но напомню, какой была реакция крайне правых, когда большевики пришли к власти. С одной стороны, они считали, что это хорошо, потому что революция дискредитирует сама себя. С другой стороны, что это хоть какая-то, но власть. Мы уже говорили, что консерваторам свойственен тезис, что всякая власть лучше отсутствия власти. Речь не идет о том, что большевики хороши. Речь идет о том, что они стали хоть какой-то властью.
В ситуации полной потери управления, полной потери власти большевики лучше, еще раз подчеркну – это не к разговору о том, что большевики хорошие. Это совершенно о другом, о том, что, оказывается, они в этом отношении получили какую-то поддержку крайне правых.
– Нет ли у вас сожаления о том, что России не удалось стать буржуазной демократией?
– Да, такое сожаление есть, но в этом смысле это уж точно не февраль 1917 года, тогда Россия точно не могла бы стать буржуазной демократией. В феврале 1917 года такого шанса у России уже не было.
– Почему – не было лидеров, не было идеи?
– Нет. В те дни речь шла о том, какой именно вариант социальной катастрофы развернется в ближайшие месяцы. Как в старом похабном анекдоте: ну да, ужас, но не ужас-ужас-ужас. Выбирать можно между вариантами ужаса – совсем ужасно или просто ужасно. Это вопрос для большой дискуссии. Последний шанс для достижения согласия можно было видеть в первые пару лет правления Александра III.
Можно сказать, что первые годы его правления – это упущенные годы для Российской империи. Другое дело, там тоже понятно, почему они упущены. Почему представительные органы власти встречают такое сопротивление в 60-е – 70-е годы XIX века? Я подчеркну, что это не только цепляние за власть, это проблемы вполне объективные, это проблемы того, как при общеимперском представительстве возможно сохранение имперского целого. Сопротивление введению представительного органа власти – не только ситуативно, не только эгоистично, оно было связано с серьезными проблемами.
Но вся эпоха с 1883 года в политическом смысле уже однозначна, все значимые политические вопросы загоняются под кожу общества. Дальше все становится только хуже, возрастает уровень взаимного неприятия. Тот уровень конфронтации, который существует к началу XX века, предполагает всякую невозможность ни для одной из сторон действовать. Здесь ведь еще и проблема в том, что так называемые представители общественности не могут пойти на компромисс с властью по объективным причинам.
Это замечательно поясняет Дмитрий Николаевич Шипов, лидер земского движения. Когда его зовут в правительство, он говорит: «Это бесполезно. Вы же зовете меня не как конкретно Шипова. Вам нужна поддержка общества. Если я приму ваше предложение, я лишусь поддержки, в этот момент я стану конкретным человеком, я потеряю всю свою репутацию, все свое значение, а вы не приобретете ничего. Это не будет полезное действие». Уровень конфронтации к этому времени был таков, что мало кто себе представлял, как выходить из этого тупика. Как мы знаем, из него так и не вышли. И 1917 год стал его следствием.

Андрей Тесля. Фото: Ирина Фастовец
Я с интересом и тревогой смотрю на то, что происходит
– Нет ли ощущения, что вы пишете в пустоту? Получаете ли вы отклик на свои книги, необходимый для продолжения исследований?
– Да, безусловно. Получаю самые разнообразные отклики – книги дают возможность общения с коллегами, возможность высказывания. И здесь не только книги, собственно, так устроена любая научная коммуникация – различные виды коммуникаций, различные виды общения, обкатка идей. Более того, любой текст всегда написан в перспективе воображаемого читателя или в ситуации либо реального, либо подразумеваемого разговора. Поэтому если бы не социальная функция авторства, то на обложке стоило бы писать в некоторых случаях реально знакомых собеседников, а в некоторых случаях и виртуальных.
– Помогает ли вам или мешает, что вы живете не в Москве, не в Санкт-Петербурге, а в Хабаровске?
– Тут, как обычно, есть свои плюсы и минусы. Во-первых, это мой родной город. Во-вторых, там мои родные, мои друзья, мои знакомые. Это любимое место. Это возможность спокойной работы. Это свои книги, свои исхоженные библиотечные тропы. С другой стороны, да, вполне очевидные проблемы – это территориальная отдаленность и сложность коммуникации, в том числе до банального, до разницы во времени и стоимости транспортных издержек. Поэтому мне трудно сказать, какой тут баланс. В определенный момент, когда тебе что-то бывает нужно, это сильно мешает. В другой ситуации оказывается, что то же самое становится плюсом.
– В каком-то смысле ваш взгляд географически направлен на запад, а не на восток или на юг. Может быть, в ближайшее время вы планируете посмотреть на восток или на юг?
– Я бы сказал, что, конечно, на запад. Я приведу один пример. У Хабаровска есть туристический потенциал, и не только потенциал, а реальность, потому что Хабаровск оказывается регулярным местом посещения китайских туристов. В какой логике? Потому что Хабаровск – это самый близкий, доступный для китайских, отчасти корейских или вьетнамских туристов, ближайший к ним европейский город. В этом смысле важно отметить, когда мы говорим о Западе или Востоке, о Европе и Азии – одно дело физическая география, другое дело ментальная.
В этом плане я подчеркну, что для большинства китайских коллег движение в Хабаровск – это тоже движение на восток, северо-восток, вообще-то, если по компасу. Двигаясь на восток, они попадают в европейский город, в европейское пространство.
– Очень интересно. И последний вопрос. Мы сейчас ведем разговор для портала «Православие и мир». Можете ли вы рассказать о том, как меняется соотношение православия и мира, каким оно было в XVIII-XIX веке и каково оно сейчас?
– Это очень широкая тема, и об этом надо ответственно думать. Если совсем коротко, я не понимаю, не очень представляю, каковы в будущем, в новых, явно меняющихся условиях возможности политического измерения веры. С одной стороны, требовать свободы от политики или требовать, чтобы политика была свободна от веры, – это странное требование. Нам приходится предполагать такое удивительное аутоанатомирование субъекта, при котором он должен как-то уметь отминусовывать от себя свою веру.
С другой стороны, подкладка этого требования вполне прозрачна. Я с интересом и тревогой смотрю на то, что происходит. Как говорила баронесса Якобина фон Мюнхгаузен в сценарии Григория Горина: «Поживем – увидим». В этом смысле главное, чтобы была возможность воочию увидеть какие-то осязаемые новые тенденции и оценить их – желательно с безопасного расстояния.

Видео: Виктор Аромштам
XIX век был веком историзма, который для нас нынешних выглядит зачастую вполне анахронистично, с попыткой найти «исток» своей истории, момент начала, который бы предопределял дальнейшее, и вглядываясь в который можно наилучшим образом понять современность. Прошлое здесь выступало в двоякой роли – в качестве того, что определяет нас и в то же время чему мы можем изменить, сознательно или по невежеству, от непонимания, недостаточного осознания своего прошлого. Осознание истории тем самым должно было вернуть сознающего самому себе – ему надлежало узнать, кто он есть, и тем самым измениться.
В шестом «Философическом письме» (1829) Чаадаев писал:
«Вы уже наверное заметили, сударыня, что современное направление человеческого разума явно стремится облечь всякое знание в историческую форму. Размышляя о философских основах исторической мысли, нельзя не заметить, что она призвана подняться в наши дни на неизмеримо большую высоту, чем та, на которой она стояла до сих пор. В настоящее время разум, можно сказать, только и находит удовлетворение в истории; он постоянно обращается к прошедшему времени и в поисках новых возможностей выводит их исключительно из воспоминаний, из обзора пройденного пути, из изучениях тех сил, которые направили и определи его движение в продолжение веков».
Для русской мысли споры о прошлом и о месте России в мировой истории были непосредственно обращены к современности – разместить себя в истории означало для XIX века, как во многом и для нас сегодняшних, определить положение в мире, оправдать одни надежды и отбросить иные, предаться отчаянию или воодушевиться масштабностью перспективы. Определяемое настоящим моментом, интерпретация прошлого возвратным образом дает нам понимание современности, а исходя из него мы действуем, т. е. совершаем поступки, направленные в будущее, и, следовательно, независимо от того, насколько верным или нет было наше понимание прошлого, оно оказывается реальным по своим последствиям.
Интерес к прошлым спорам в истории русской мысли определяется не столько их кажущейся «непреходящей актуальностью», сколько тем обстоятельством, что мы по сей день говорим во многом посредством интеллектуального словаря, что возникает в ту эпоху, используем противопоставления, определившиеся тогда, и, встречаясь с ними в прошлом, испытываем «радость узнавания», которая нередко оказывается лишь следствием ложного отождествления.
Кажущаяся актуальность полемики прошлого связана с тем, что мы раз за разом изымаем тексты прошлого из их контекста – так, «западники» и «славянофилы» начинают встречаться далеко за пределами споров в московских гостиных и на страницах «Отечественных записок» и «Москвитянина», оказываясь вневременными понятиями; одинаково употребимыми и применительно к 1840-м; и к 1890-м; и к советским спорам 1960-х; «азиатская деспотия» или «восточные нравы» с тем же успехом начинают встречаться хоть в XX в. до Р.Х.; хоть в XX в. от Р.Х. Соблазн наделять историю функцией прояснения смыслов современности приводит к тому что сами исторические отсылки оказываются вневременными – история в этом случае берет на себя роль философии; в результате оказываясь несостоятельной ни как история; ни как философия.
Напротив; если говорить об актуальности подлинной; то она состоит в первую очередь в восстановлении интеллектуальной генеалогии – идеи; образы; символы; которые представляются в первом приближении «самой собой разумеющимися»; едва ли не «вечными»; раскрываются в момент их возникновения; когда они являются еще только наметками, попытками разметить пока еще неописанную «пустыню реальности». О заслуженно знаменитой книге о. Георгия Флоровского «Пути русского богословия» (1938) Николай Бердяев отозвался; что точнее ее было бы назвать «Беспутство русской мысли» – исторический разбор все приводил к тому что думали не так; не о том; не в той последовательности или вообще без оной. Но даже если мы согласимся вдруг со столь печальной оценкой; и в этом случае обращение к истории не будет бесплодным; ведь дело не только в вердикте; но и в понимании логики споров прошлого: «в его безумье есть система». Впрочем; сами мы так не думаем – разочарование есть обычно следствие предшествующего очарования; чрезмерных надежд; ожидания найти ответы на «последние вопросы». Но; как писал Карамзин (1815); «всякая История; даже и неискусно писанная; бывает приятна; как говорит Плиний; тем более отечественная. […] Пусть Греки, Римляне пленяют воображение: они принадлежат к семейству рода человеческого, и нам не чужие по своим добродетелям и слабостям, славе и бедствиям; но имя Русское имеет для нас особенную прелесть […]».
В серии «Перекрестья русской мысли» планируется выход избранных текстов русских и российских философов, историков и публицистов, имеющих определяющее значение для выработки языка, определения понятий и формирования существующих по сей день образов, посредством которых мы осмысляем и представляем себе Россию/Российскую империю и ее место в мире. В числе авторов, чьи тексты войдут в серию, будут и общеизвестные фигуры, такие как B. Г. Белинский, А. И. Герцен, H. М. Карамзин, М. П. Катков, А. С. Хомяков, П. Я. Чаадаев, так и менее известные сейчас, но без знакомства с которыми история русской общественной мысли XIX века явно неполна – М. П. Драгоманов, C. Н. Сыромятников, Б. Н. Чичерин и другие. Задачей данной серии является представить основные вехи в истории дебатов о русском прошлом и настоящем XIX века – золотом веке русской культуры – без идеологического выпрямления и вчитывания в тексты прошлого сиюминутной проблематики современности. По нашему глубокому убеждению, знакомство с историей русских общественных дебатов позапрошлого столетия без стремления непосредственно перенести их в современность – гораздо более актуальная задача, чем попытка использовать эти тексты прошлого в качестве готового идеологического арсенала.
Александр Герцен: первый опыт синтеза западничества и славянофильства
На Герцене как на даровитом искреннем человеке видна эволюция передового человека. Он поехал на Запад, думая, что там найдет лучшие формы. Там перед его глазами прошли революции, и у него появилось разочарование в западном строе и особенная любовь и надежда на русский народ.
Для советских интеллектуалов на протяжении десятилетий А.И. Герцен (1812–1870) был одной из немногих официально разрешенных «отдушин» – при всех колебаниях курса в отношении интерпретации конкретных фигур, при постоянном пересмотре пантеона, выдвижении одних и исключении других , его место было обеспечено благодаря во многом случайной статье В.И. Ленина , написанной к столетней годовщине со дня его рождения, в 1912 г. Он был тем, кто входил в генеалогию праотцов русской революции, вместе с декабристами числясь в ряду «дворянских, помещичьих революционеров первой половины прошлого века». И, как и декабристы, для советского мира он был узаконенным выходом в иной мир – мир дворянского быта, иных, далеких от «революционной этики», представлений о должном, иных способов жить с собой и с другими.
Тесля А.А. Русские беседы: Лица и ситуации. - М.: РИПОЛ-Классик, 2017. - 512 с.
Книгу уже сейчас можно приобрести на 19-й книжной ярмарке non/fiction. А с конца следующей недели она появится в основных книжных магазинах, и в течение ближайших 2-х недель - в интернет-магазинах.
Русский XIX век значим для нас сегодняшних по меньшей мере тем, что именно в это время - в спорах и беседах, во взаимном понимании или непонимании - выработался тот общественный язык и та система образов и представлений, которыми мы, вольно или невольно, к счастью или во вред себе, продолжаем пользоваться по сей день. Серия очерков и заметок, представленная в этой книге, раскрывает некоторые из ключевых сюжетов русской интеллектуальной истории того времени, связанных с вопросом о месте и назначении России - то есть о ее возможном будущем, мыслимом через прошлое. В первой книге серии основное внимание уделяется таким фигурам, как Петр Чаадаев, Николай Полевой, Иван Аксаков, Юрий Самарин, Константин Победоносцев, Афанасий Щапов и Дмитрий Шипов. Люди разных философских и политических взглядов, разного происхождения и статуса, разной судьбы - все они прямо или заочно были и остаются участниками продолжающегося русского разговора. Автор сборника - ведущий специалист по русской общественной мысли XIX века, старший научный сотрудник Academia Kantiana Института гуманитарных наук БФУ им. Канта (Калининград), кандидат философских наук Андрей Александрович Тесля.
Предисловие. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Вместо введения. О памяти, истории и интересе. . . 8
Часть 1. ДВОРЯНСКИЕ СПОРЫ. . . . . . . . . . . . . . . 15
1. Неизменность Чаадаева. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2. Россия и «другие» в представлениях русских консерваторов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
3. Отсталый человек. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
4. «Миф о иезуитах» в отсутствие иезуитов. . . . . 171
5. Юрий Федорович Самарин и его переписка
с баронессой Эдитой Федоровной Раден. . . . . . . . . 221
6. Положительно прекрасные русские люди. . . . . . 254
7. «Дамский круг» славянофильства: письма И.С. Аксакова к гр. М.Ф. Соллогуб, 1862-1878 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Часть 2. ДЕЙСТВИЕ И РЕАКЦИЯ. . . . . . . . . . . . . 335
8. Русская судьба. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
9. Русский консерватор: о системе политических воззрений К.П. Победоносцева 1870-1890-х гг. . . . 366
10. «Староземец» Д.Н. Шипов. . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
11. Консерваторы в поисках будущего. . . . . . . . . . . 469
12. Публицист несостоявшегося русского фашизма. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494
Список сокращений. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505
Сведения о статьях, вошедших в настоящее издание. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506
Благодарности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508
Андрей Тесля: «Новая имперская история Северной Евразии» первоначально публиковалась в журнале Ab Imperio , а теперь вышла отдельным изданием в двух томах. Это, независимо от отношения к содержанию, большое событие в отечественной историографии, поскольку авторы, как мне видится, претендуют на создание нового большого нарратива - на смену Карамзину, логику, предложенную которым, видят господствующей со всеми модификациями до сего дня. Это одновременно и подведение итогов (всей предшествующей деятельности команды историков, на разных этапах собиравшихся на страницах журнала), и начало нового этапа - притязание на выход за пределы «цеха», в большое пространство. Показательно, что на первых же страницах этого труда они полемически упоминают «Историю…» Бориса Акунина, явно не имеющую в виду профессиональное сообщество. Вместе с тем декларативно авторы утверждают, что не имеют притязаний на новый большой нарратив - их цель конкретнее: деконструкция существующего, того, что генеалогически восходит к Карамзину. На ваш взгляд, насколько можно согласиться с декларируемыми ограниченными задачами курса? Ведь если речь идет о деконструкции, то не логичнее ли фрагментарное письмо? Логика демонстрации зазоров - а не построение связного курса, который в любом случае задает некоторую монологичную рамку описания?
Иван Курилла: Мне представляется, что авторы лукавят, когда утверждают, что их цель - деконструкция нарратива; у них вполне получается конструирование нового. Этот новый нарратив весьма интересен, местами спорен - но это именно последовательное изложение истории региона, который они предпочитают называть «Северной Евразией».
Тесля: А как бы вы могли тогда охарактеризовать этот нарратив - в особенности в сравнительной перспективе? У вас ведь совсем недавно вышла снискавшая самые одобрительные отзывы книга о понятии «история»: в этой оптике как можно оценить/описать данное начинание, если брать большую историографическую рамку?
Курилла: Спасибо за отзыв - и да, я в упомянутой вами книге писал о запросе на новые нарративы, о том, что раздробленность исторической науки на все более детализированные темы и хронологические отрезки, понятная, если исходить из цели более глубокого анализа конкретных проблем, все более отчуждает историков от потенциальных читателей их трудов за пределами собственного цеха. С этой точки зрения не могу не приветствовать попытку предложить такой новый нарратив, который, я уверен, сможет прочесть множество образованных людей, испытывающих интерес к истории, но не такой, чтобы читать специализированные монографии. Авторы в самом начале своего текста упоминают параллельную попытку Бориса Акунина, которая явилась ответом на тот же самый запрос читателей на целостный рассказ об истории нашей части мира. Но тут есть и некоторая ловушка - авторы (в отличие от Акунина) являются профессионалами-историками, но для того самого непрофессионального читателя они конкурируют, прежде всего, именно с Акуниным. Мы видим, что авторы дальше отошли от традиционной структуры российской истории, - но в глазах этого широкого читателя эти отличия не так очевидны. Если же посмотреть на нарратив глазами историков (не будучи историком России, я, увы, не могу в полной мере оценить, насколько авторы учли современные исследования российской истории), то обобщающий нарратив хорош, если он побуждает по-новому поставить некоторые вопросы; исходя из более широкой хронологической или географической рамки, увидеть возможность посмотреть на источники под другим углом. Мне представляется, что в некоторых сюжетах предложенный нарратив такие повороты стимулирует.
Ab Imperio, 2017
Тесля: В связи с «Новой имперской историей…» целый ряд критиков из исторического сообщества вспомнил о курсе М.Н. Покровского и т.п. - обвиняя авторов в идеологической заданности и прочих прегрешениях. Не касаясь пока этого рода тем, хочу спросить у вас: насколько получившийся проект вам представляется удачным - и какие эффекты он производит, на ваш взгляд, - по своей риторической модели? Ведь риторика в случае обращения к широкому читателю - одна из важнейших частей, а курс нарочито представлен как «обобщенный голос», без указания на авторство отдельных разделов, без ссылок, даже с минимальными ритуальными благодарностями, которые вошли в современный обиход, - то есть курс представлен как коллективное высказывание, в котором не должны быть слышны отдельные голоса, они должны звучать единым хором.
Курилла: Самая большая трудность, которую я испытал при чтении текста, - именно эта его сознательная «оторванность» от поля исторической науки: авторы не формулируют вопросов, не указывают на разные оценки и интерпретации, не показывают возможности разного прочтения источников, предлагая вместо этого связное повествование. Если я не специалист в той области, о которой пишут авторы (а я не специалист по российской истории вообще и более или менее уверенно чувствую себя лишь во второй трети XIX века), то мне хочется понять, где авторы повторяют общепринятые представления, где спорят с ними, а где просто пишут новое «с нуля», без оглядки на существующую историографию. Вы напомните, что эта лаборатория интересна только историкам, а авторы, как я сам сказал чуть раньше, писали для широкого читателя, - но тут я не соглашусь. Мне представляется, что важнейшей целью исторического курса, предлагаемого широкому читателю, должно стать понимание возможности различных нарративов, существование споров как по поводу источников, так и по поводу оценок. Этого в книге нет, и это ее важнейший минус.
Сами авторы при этом пишут (в начале текста), что они ставили целью «создание внутренне логичного и согласованного нарратива, преодолевающего монологизм и телеологизм стандартных обзорных курсов»; я сомневаюсь, что «согласованный нарратив» вообще возможен, разве что с точки зрения авторов, - а вот монологизм, как мне кажется, они, скорее, усилили (во всяком случае, в моем понимании этого слова).
Тесля: Поскольку для авторов курса его идеологическое звучание является сознательной установкой, то - если чуть отвлечься и опять же обратиться к более широким историческим дискуссиям - может ли идеология не быть «монологичной» по существу? И, с другой стороны, в какой степени история, обращенная к широкому читателю, может не быть идеологически нагруженной - пусть даже это будет «идеология многообразия»? Если же считать своей целью уйти от «идеологичности», то какими вам видятся возможные стратегии этого движения?
Курилла: Я, возможно, что-то упустил, но я не вижу у авторов сознательной установки на «идеологическое звучание курса». Однако соглашусь с тем, что нарративы, как правило, в той или иной степени идеологичны. То есть в моем представлении зависимость носит обратный характер: дело не в том, что идеология монологична, а в том, что любой монолог идеологичен по своей сути. Именно поэтому мне не хватает в тексте проговоренных вопросов к прошлому - в монологе-нарративе мы видим только ответы на скрытые от нас вопросы. Открытая формулировка вопросов обнажает то, что вы назвали идеологией, и этим ее обезоруживает. Стратегией ухода от идеологичности могла бы быть попытка формулирования нескольких вопросов к одному и тому же материалу, заданных из разных (социальных, политических, идейных) позиций, - но это, наверное, пока звучит утопически.
Тесля: Уже заглавие текста отсылает к евразийскому (разумеется, сильно переосмысленному и модифицированному) концепту «месторазвития». Вместо политических границ и политических субъектов настоящего, проецируемого в прошлое, здесь перед нами опыт опоры на географическое - как относительно стабильное: в этой географической рамке происходит разнообразное, но сами пространственные границы остаются устойчивыми - особенно в условиях, когда границы относительно недавнего прошлого во многом исчезли, а новые границы оказались со всей очевидностью поставлены под вопрос. Насколько вам представляется успешным и, что самое главное, продуктивным - способным стать широкой рамкой для последующих работ - подобный подход в обозначенных границах?
Курилла: Я вполне согласен с тем, что проекция современных границ в прошлое при написании истории - неверная практика. Однако авторы исходят из того, что в первом тысячелетии сформировался регион, историю которого они и пишут. Мне представляется, что этот регион (и особенно его границы) постоянно переопределялся в последующем тысячелетии. Когда авторы описывают монгольское вторжение, например, они включают в историю страны к югу от описанного ими в начале региона - и Китай, и территории к югу от Каспия. Тогда в чем ценность даваемого в начале описательного определения?
Тем не менее сама попытка написать текст, не привязанный к упадку и возвышению Москвы, а описывающий разворот событий в других государственных (и протогосударственных) образованиях региона, мне кажется плодотворной.
Тесля: Обращаясь к вашей области интересов - а какие плодотворные, оригинальные варианты «большой истории» из современных вы бы назвали? Где вам видятся наиболее продуктивные и одновременно интересные для широкой аудитории варианты исторического письма?
Курилла: Боюсь выглядеть невеждой, но современных примеров «большой истории» я почти не знаю. Есть работы, относящиеся, скорее, к жанру исторической социологии, есть книга Б.Н. Миронова о социальной истории России периода империи - но у меня есть сомнения в том, что она легко читается широкой аудиторией. Немного напрягшись, я вспомнил пример уже не вполне современный: в 1991 году была опубликована работа в нескольких томах под общим заголовком «История Отечества. Люди, идеи, решения» - если мне не изменяет память, ее авторы совершили попытку рассказать о каждом из спорных вопросов отечественной истории как о живом споре историков: из книги можно было получить знание как о событиях прошлого, так и о том, в чем состоит современный интерес к этим событиям, каковы основные расхождения в подходах к ним. Вот это, с моей точки зрения, самый продуктивный подход к историческому сочинению для широкой публики.
Тесля: Непосредственно заявляемой целью проекта обозначается выработка «нового языка» описания. Скажите, насколько вам представляется успешной эта попытка и в какой степени действительно есть потребность в выработке «нового языка» - ведь многие из используемых авторами моделей описания имеют весьма почтенную историю и уже вполне укоренены, в том числе благодаря усилиям авторов «Новой имперской истории…», в местную почву?
Курилла: Мне трудно оценить всю новизну языка описания в этом тексте. Я вижу в некоторых главах влияние близкого мне конструктивизма (в других его нет) - и если это новый язык, то очень хорошо. Потребность в выработке нового языка, вероятно, есть. Но мне кажется, что этот новый язык должен был бы интегрировать социальную и политическую историю, однако в этом тексте сохранена государствоцентричность, характерная для классики, с которой авторы вроде бы спорят.
Тесля: Мне представляется, что у всякой попытки связного большого повествования уже по самим законам жанра должен быть некий центр, то, что станет предметом описания, - как, например, в романе воспитания это будет история девушки/юноши на пути взросления, «утраты» или «обретения» себя. Кто или что может для нас применительно к нашему опыту стать подобным «субъектом» в большой длительности? Как можно попытаться описать себя из прошлого - и как, на ваш взгляд, можно продуктивно помыслить этих «нас», о ком эта история?
Курилла: У авторов в качестве заявленного «субъекта» выступает некое пространство, на котором самоопределяются человеческие коллективы. Собственно, они сделали все, чтобы у читателя не возникло отождествления себя с жителями Роу ськой земли (как это было когда-то описано Тамарой Эйдельман в статье «Как мы разбили Хазарский каганат»). Мне кажется интересным (хотя и небесспорным) предложение представить себя наследниками не конкретной («этнической»? государственной?) традиции, а всех народов, ранее живших в Северной Евразии, - так, чтобы житель, например, междуречья Волги и Дона представлял себя преемником не только московских стрельцов, направленных туда в XVI веке, или же крестьян, бежавших к казакам от закрепощения, - но и жителей Золотой Орды, и печенегов, и даже сарматов, которые ранее по-своему осваивали это пространство. Это представление делает наше собственное прошлое богаче.
Тесля: И в названии курса, и в тексте не только отчетливо, но даже настойчиво заявляется претензия на «новизну» - насколько она оказывается оправданной, на ваш взгляд? Сколько здесь от декларации - и сколько от реального разрыва с прежними схемами? И если последнее, то что вам представляется наиболее продуктивным, а что, скорее, вызывает сомнение?
Курилла: И снова мне трудно ответить: повторю, я не являюсь специалистом по российской истории, и моя оценка новизны не будет справедливой - для этого надо быть гораздо лучше знакомым с существующей историографией. Мне понравилась попытка выйти за рамки истории Киевской-Московской Руси, рассмотрев эти государственные образования в ряду других, соседних.
Тесля: Поскольку курс обращен к широкому образованному читателю, то насколько вам представляется удачной идея последовательного хронологического «укрупнения» изображаемого - от беглого экскурса в далекое прошлое вплоть до почти пятисот страниц, посвященных последнему столетию с небольшим существования империи? Тем самым не получается ли, что чем ближе к нам прошлое, тем больше его значимость для нас, - и тем самым история оказывается сфокусирована на «генеалогии современности», утверждая проецирование современности в прошлое? Не слишком ли много отведено в этом случае пониманию современности, не только нигде эксплицитно не проговоренному, но и по определению не являющемуся предметом специального, профессионального знания авторов, - то есть не рискуют ли они прочитывать прошлое под углом всего лишь расхожего понимания современности? Мне представляется, что в этом случае конкретный текст позволяет нам выйти на гораздо более фундаментальную проблематику - зависимости исторического знания не только от современности, но и от того обстоятельства, что историк по определению относится к современности как обыватель.
Курилла: Да, я тоже обратил внимание на непропорциональное соотношение отдельных глав - как будто авторы писали о разных периодах объемы, пропорциональные объему доступных по ним источников (и это другая гипотеза, не связывающая проблему с «генеалогией современности»). Тут, правда, авторов немного выдает оговорка в начале текста - что им «удалось создать первый современный исторический нарратив, не встречающий принципиальных возражений со стороны местных сообществ историков в постсоветских обществах, что является уникальным научным и политическим достижением». «Политическое достижение» однозначно ставит текст в контекст современных битв за историю (не могу сказать, что я это осуждаю, но, возможно, стоило бы тогда это прямо прописать).
Тесля: История, позволю себе несколько наивное высказывание, - всегда место «битв» или «боев», но применительно к нам - где сейчас проходят, на ваш взгляд, наиболее значимые «линии фронтов» для самого исторического сообщества и как вы оцениваете ближайшие перспективы развития событий с точки зрения данных противоборств?
Курилла: На сегодня довольно очевидным представляется лишь внешний «фронт» - оборона исторического сообщества от натиска презентистских подходов, жертвующих историей ради удобных мифов - политических, идеологических или социокультурных. Внутри же сообщества много расколов, но, мне кажется, тут нет «фронтов»: историки не борются друг с другом, несмотря на разные методологии, повестки дня или даже идеологические пристрастия. Тем не менее соперничество существует: например, между историей, скажем, более традиционной для России, близкой к позитивизму своим недоверием к теории и упором на тщательную работу с источниками, - с одной стороны и более интернационализированной историей, ставящей перед прошлым необычные вопросы (иногда, по мнению сторонников первого подхода, в ущерб тщательности в обработке источников), - с другой. Авторы «Новой имперской истории Северной Евразии» представляют, конечно, вторую группу - и она, мне кажется, имеет шансы поколебать доминирование первой в период смены поколений в российской исторической науке. Однако я понимаю, что это очень упрощенная схема, - даже в советское время среди отечественных историков были люди, способные поменять исследовательскую повестку дня (вспомню для примера А.Я. Гуревича), а среди тех, кто сегодня привносит новые вопросы, есть множество людей, проведших многие годы в архивах и понимающих значение и смысл такой работы. Поэтому я все же не вижу здесь «фронта» и конфликта - скорее, мы движемся к новому синтезу.
В книге представлена попытка историка Андрея Тесли расчистить историю русского национализма ХХ века от пропагандистского хлама. Русская нация формировалась в необычных условиях, когда те, кто мог послужить ее ядром, уже являлись имперским ядром России. Дебаты о нации в интеллектуальном мире Империи – сквозной сюжет очерков молодого исследователя, постоянного автора Gefter.ru. Русская нация в классическом смысле слова не сложилась. Но многообразие проектов национального движения, их борьба и противодействие им со стороны Империи доныне задают классичность русских дебатов. Их конкретность позволяет уйти от фальши «общепринятых» прочтений, вернув прошлому живую неоднозначность.
Из серии: Тетрадки Gefter.Ru
* * *
компанией ЛитРес .
О консерватизме и национализме в их сопряжении
Консерватизм, что общеизвестно, возник как реакция на французскую революцию – общество пришло в движение непосредственно доступным наблюдению и осознанию образом, менялось то, что представлялось ранее неизменным – и потому самоочевидным.
Собственно, любая эпоха радикальных политических и социальных перемен (причем, пожалуй, политических в большей степени, чем социальных) порождает рефлексию, выставляя власть и общество на столе анатомического театра. То, что ранее было сокрыто – или, куда чаще, просто невидимо в силу привычности взгляда, поскольку нам почти невозможно дистанцироваться от той ситуации, в которой мы находимся, от той среды, в которой протекает наша жизнь, – перемены делают явным: наблюдателю дано видеть, как утрачивается и обретается власть, как возникают новые социальные слои. То, для чего в «нормальных» условиях требуются десятилетия и века, в эти периоды протекает со скоростью, соизмеримой с динамизмом театрального действа: дается классическая трагедия с ее единствами, когда все, сколь бы ни сложна и долга была его предыстория, сходится в одной точке в один момент времени. Из катастрофы XVII века рождается философия права, сосредоточенная на праве публичном – на том вопросе, как возможно публично-правовое регулирование, стремясь в праве отыскать исток и смысл государства и тем самым ставя в центр размышлений сам феномен «права», границу, пролегающую между правом и бесправием.
В XVI–XVII веках возникает то самое «политическое тело» – «народ», который может быть репрезентирован различным образом: монарх теперь становится репрезентантом, одним из возможных. В рассуждениях Гоббса эта мысль подчеркивается со всей возможной отчетливостью: не принципиально, какова будет государственная форма – монархия, аристократия или демократия, – это вопрос практический, решаемый в зависимости от обстоятельств. Отсюда и тенденция к уравниванию правителей – императоров и королей, князей и герцогов, – которая найдет свою формулировку в Вестфальском договоре, поскольку всякий правитель – это тот, кто осуществляет власть над определенной территорией, репрезентируя некую общность-народ. Предельно огрубляя: ранее статус правителя определялся в рамках сакральной иерархии. Король пусть и провозглашался «императором в своем королевстве», но существенным было то, что его imperium, в отличие от императора в собственном смысле, оказывался территориально ограниченным и сакральная иерархия действовала в неоплатоническом порядке иерархий – с перетоком энергии сверху вниз. Причем каждый неоплатонический уровень обладает частичной автономией, имеющей смысл лишь в рамках Единого, по отношению к нему. В новой же логике власть правителя опирается на низшее, он не «вступает в переговоры» с сословиями, поскольку в новой логике он и есть единственная политическая реальность – то, через что «народ» становится видимым.
Во французской революции «народ» становится «нацией», то есть тем, что обладает политической реальностью, субъектностью самой по себе – логика репрезентации противоборствует с логикой тождества, руссоистской непосредственной данностью «общей воли»: 1) либералы движутся в рамках «умеренности», ограничения каждой из возможностей, по существу множественной репрезентации, когда нацию репрезентируют и монарх, и парламент; 2) демократы, в идеале определяемые логикой тождества, на практике отстаивают единственного репрезентанта – парламент, возвращаясь к тождеству через возможность апеллировать к нации как таковой «через голову» парламента, прибегая к референдуму или аккламации.
Консерватизм как реакция на революцию оказывается изначально двойственным, выражаемый двумя едва ли не диаметрально противоположными фигурами:
1. Эдмунд Бёрк сформулирует позицию «либерального консерватизма», исходящего из основополагающего тезиса: реальность сложнее любых рациональных формулировок. Из этого принципа сложности вытекает, что мы не можем действовать, опираясь исключительно на наши рациональные представления о том, как устроен мир и как нам надлежит его переустроить, поскольку любой «план переустройства» по определению должен содержать в себе «поправку на неучтенную, неосмысленную реальность». Переосмысляя концепт «общественного договора», Бёрк вводит временную перспективу – этот договор теперь включает не только нынешних «отцов семейств», но и тех, кто жил ранее, и еще не рожденных: общество не начинается с нас и нами не заканчивается; цели, которые мы преследуем, выходят за границы нашей жизни – начиная с того, что мы заботимся о своих детях. Полемизируя с культом разума, универсального, принципиально одинакового у всех людей и обосновывающего возможность универсальных форм социальной и политической организации, Бёрк формулирует «презумпцию вменяемости» – если действия людей кажутся нам бессмысленными, то проблема, вероятнее всего, в том, что мы не понимаем смысла этих действий. Иными словами, Бёрк настаивает на том, чтобы не принимать свое понимание, нынешние границы рационального понимания за реальность как таковую, осмысленность мира не совпадает с тем, что мы способны осмыслить в данный момент.
Данная разновидность консерватизма рождается из одновременного осознания хрупкости и важности традиций и того факта, что традиции поддерживаются «местными сообществами», – они существуют только за счет того, что постоянно воспроизводятся. Отсюда и тезис об отсутствии универсальных рецептов и спасительных формул в политике – каждое общество решает собственные задачи, опираясь на свой опыт, свои традиции, свои устоявшиеся способы взаимодействия, поэтому то, что хорошо зарекомендовало себя в одной стране, не будет работать в другой или будет действовать совершенно иначе.
2. Если Бёрк – скептик, для которого первая заповедь в политике «не навреди», а политическое действие определяется как искусство возможного, а не достижения некой идеальной цели, для которого общество – это данность и основная задача, стоящая перед ним, выше любых других – самосохранение, то второй отец консерватизма, Жозеф де Местр, выступает едва ли не прямой его противоположностью. Власть для него – таинство, иррациональное, трансцендентное обществу, или, скорее, трансцендентальное – то, что не является социальным и через что социальное обретает существование. Здесь заявляется проблематика политического мышления, совершенно отсутствующая в горизонте XVIII века, к которому принадлежит Бёрк, – политика связывается с божественным, причем Всевышний проявляет себя в политике через необъяснимое, парадоксальное; это больше не Бог, который вносит смысл, – напротив, непостижимость как раз выступает знаком Его присутствия.
Для де Местра ближайшая к фигуре монарха особа – палач, который вовне общества и в то же время воплощает то, что позволяет обществу существовать, сплачивая его через насилие, изъятое из социального и в то же время присутствующее в нем: убийство, запрещенное в обществе, разрешено палачу, который является «законным убийцей», подобно тому как монарх осуществляет свое властвование, создает закон, сам будучи изъятым из сферы действия закона, – власть действует через предельное и запретное, через право преступать границу права и тем самым эту границу создавать. Если Гоббс, размышляя о суверене, строит предельно рациональную систему, то для де Местра основным феноменом выступает война с ее нерациональностью на уровне действия отдельных солдат; власть – это та сила, которая заставляет солдата жертвовать своей жизнью, подчиняясь, а не «ради чего-то», это то, что овладевает нами. Там же, где наше согласие исчерпывается рациональным, там нет общества, есть сделка, и если этот образ «общества купцов, заключающих договоры», кажется нам убедительным, то это либо слепота, либо нам довелось жить в счастливые времена, когда не обнажается природа власти.
Революционные и наполеоновские войны, первые нерелигиозные войны с сильной идеологической составляющей, вызвали в столкнувшихся с ними странах одновременно националистическую и консервативную реакцию (и, в частности, в Вене в период с 1805 по 1810 год привели к попыткам сочетать национальное движение и консерватизм – например, в форме «южного романтизма» Фридриха Шлегеля, чему пришел конец после 1810 года, когда правительство Меттерниха вполне разумно сочло для себя националистическое движение слишком опасным, чтобы ситуативно воспользоваться им как союзником). Разумеется, в чистом виде ни одна из названных форм консервативной реакции не получила распространения – однако тот импульс, который придали ей де Местр и мыслители той же группы, оказался в высшей степени продуктивным: происходит вторичная сакрализация монархий, возникновение «политического христианства» (в первую очередь – католичества, становящегося мощной политической силой с 1810-1820-х годов).
Идеология легитимизма, утвердившаяся после Венского конгресса, как и всякая компромиссная идеология, пыталась задействовать целую связку смыслов, внутренне противоречивых, – она позволяла одновременно использовать и логику репрезентации, и в то же время обновленную сакрализацию власти (не случайно с этого времени коронационные ритуалы получают широкое распространение и все большую значимость). Однако в основе легитимизма лежало признание права как самодостаточного основания – всякая существующая власть признавалась и подлежала охране, принцип легитимизма одинаково защищал абсолютную и конституционную монархию, христианскую власть и власть иноверческую; в силу этого принципа надлежало сохранять как польскую конституцию (до тех пор пока мятежники сами не нарушили ее), так и власть турецкого султана. Разумеется, в этом смысле консерватизм оказывался идеологией власти – но отнюдь не обязательно только ее, поскольку равным образом предоставлял идеологическую опору аристократии в ее сопротивлении становлению управления посредством бюрократического аппарата или местным общинам, которые в консерватизме находили основу для сохранения своих особых статусов в конфликте с государственной властью.
Коренная смысловая трансформация консерватизма приходится на 60-е годы XIX века. До этого момента решающим противником консерватизма было национальное движение – национализм, опирающийся на демократическую в своей основе идеологию национального тела и обретения им политической субъектности, противостоял сложившимся политическим образованиям и властям. Бисмарк осуществил в 1860-е консервативный перехват националистической программы, реализовав вариант «Малой Германии» и создав тем самым принципиально новый феномен – консервативное наполнение национализма, который активно стал впитывать иррационалистические компоненты, трансформируя их в «мистику нации»: риторика «крови и почвы» получила возможность апелляции к актуальным политическим традициям. В результате к концу XIX – началу XX века возникла идеологическая основа для сочетания консерватизма и национализма в радикальном проекте, максимально далеком от консерватизма в понимании Бёрка – то есть как противостояния обществу модерна и возвращения к тому, что считалось ценностями традиционного общества, причем последнее отождествлялось с национальным телом. Такой поворот распространился в первую очередь в тех странах, которые лишь недавно сформировались как нации – или же были «национализирующимися государствами» – и которым угрожали или альтернативные национальные проекты, или они находились в сложном международном положении, воспринимавшемся ими как непосредственная угроза (например, Германия или Россия).
Первая мировая война, обрушив прежние традиционные политические системы и дав шанс большевикам, сумевшим им воспользоваться, вызвала на первый взгляд парадоксальный феномен «демократического консерватизма», фактически имевшего уже мало общего с консерватизмом в том смысле, в каком он понимался в XIX веке – то есть опирающимся на существующую социально-политическую иерархию, на аристократию, чья власть по мере утраты реальных оснований цементировалась традицией, нуждающейся в постоянном обновлении. Новый «консерватизм», апеллирующий к традиционным ценностям, не нуждался более в сложной системе автономных групп и сословий – отмененная история укладывалась в вечное надысторическое «тело нации», репрезентируемой фигурой вождя, чья подлинность удостоверялась теперь видением толп, данным извне, в глазе кинообъектива и изнутри, через присутствие как частицы «всеобъемлющего целого».
Дурная повторяемость русской истории
В начале 1830-х годов Чаадаев писал о пустоте и дурной повторяемости русской истории. Два поколения спустя Розанов уже воспроизводил подобные рассуждения – лишенные тотальности отрицания и напряженности видения, задаваемого апокалиптической перспективой, но от этого только прибавляющие в распространенности – как «общее место»:
«Вся наша (русская) история – особенно в эти два века, и чем дальше, тем хуже – носит характер хаотичности; все в ней “обильно”, “широко” – и все “не устроено”; мы как бы живем афоризмами, не пытаясь связать их в систему и даже не замечая, что все наши афоризмы противоречат друг другу; так что мы собственно, наше духовное я – не определимы, не уловимы для мысли, и вот почему мы – не развиваемся» (Розанов, 2000: 309).
Едва ли не самый распространенный призыв, ожидание и чаяние во всех лагерях и направлениях русской мысли с середины
XIX века и вплоть до наших дней – к «новому началу». Не суть важно, «началу» чего именно – это может быть и социальный переворот, и возвращение к утраченным истокам, но главным здесь выступает та же логика разрыва, желание «переоснования», и в этом отношении славянофилы, например, ничем не отличаются от своих оппонентов западников, поскольку и для тех, и для других наличная действительность подлежит отмене – либо через возврат к тому прошлому, с которым порвал «Петровский переворот», либо к тому, чтобы вновь, вслед за Петром I, каким он предстает в глазах западников, решиться «переучредить Россию на европейский лад».
Подобное самоощущение складывается из-за наложения двух процессов:
– во-первых, общего процесса модернизации – ломки традиционных социальных структур, привычных хозяйственных и культурных укладов, и этот процесс вместе с Россией проходят все европейские общества, а если говорить об обществах Центральной и Восточной Европы, то процесс проходит еще и в весьма близких хронологических рамках;
– во-вторых, ситуация догоняющего развития – Россия одной из первых стран мира оказалась вовлеченной в масштабный процесс догоняющей модернизации, когда модернизационный импульс приходит извне, порожден внешней ситуацией, а не внутренними потребностями общества. Субъектом модернизации здесь выступает государственная власть, воздействующая на общество в целях выживания – поскольку для того, чтобы выживать в меняющемся мире и тем более чтобы достигать целей, выходящих за пределы выживания, государство должно располагать средствами, ресурсами, которые ему не предоставляет текущее состояние общества. Но само общество не испытывает данной потребности – те типы связей и взаимодействий, которые существуют в нем, удовлетворяют его потребностям, изменения приходят как внешнее требование – государственная власть перестраивает общество. И отсюда феномен автономии власти в обществах подобного типа, власть как «единственный европеец».
Эта же власть порождает интересный, многократно описанный феномен – образованное общество, часть которого в дальнейшем вырастет в «интеллигенцию», группу, которая существует, с одной стороны, в той мере, в какой власть осуществляет свой модернизационный проект, и, следовательно, не имеющая опоры в остальном обществе, остающемся в традиционной системе отношений и претерпевающем властное воздействие, с другой – в противостоянии этой власти, монополизировавшей власть. Позиция эта давно описывается через понятие «ориентализм», введенное Э. Саидом, с последующим усложнением через понятие «внутренний ориентализм». Позиция «образованного общества» определяется двойственно: во-первых, через дистанцирование от остального («не-образованного») общества, которое рассматривается как объект колониального управления – пассивная, косная масса, лишенная субъектности; во-вторых, право на власть обосновывается через принадлежность к «иному миру» – они «внутренние европейцы», занесенные в неевропейскую реальность; в-третьих, амбивалентным отношением к «Европе» – она тот воображаемый субъект, с которым «образованное общество» должно себя идентифицировать, через это получая право на свой статус, она же и источник напряженности, поскольку необходимо доказывать и подтверждать свою принадлежность к ней, и при этом она источник внешнего воздействия, того самого ориентализирующего взгляда, в который попадают и сами «внутренние европейцы».
Рывок догоняющей модернизации удался нам как минимум дважды – в XVIII веке, когда к началу XIX века Россия в европейском мире заняла позиции, ранее принадлежавшие Польше (аграрного центра), и вновь уже в XX веке – в рамках индустриализации. Проблема в том, что как раз те самые традиции, об отсутствии которых принято сожалеть, оказываются не только существующими – только выглядящими иначе, чем хотелось бы, и потому не замечаемыми взглядом, стремящимся в действительности найти только те традиции, которые он желает обрести, – но и определяющими логику долговременного развития. Догоняющая модернизация оказывается образом действий, который больше не работает (поскольку исчезли основания, с опорой на которые она могла бы оказаться эффективной), но который стабильно воспроизводится как единственно мыслимая и обсуждаемая модель поведения – неважно, о какой именно сфере, экономической, политической, социальной или культурной, мы говорим.
В статусе образованного общества скрывается одна любопытная подробность: чтобы сохранять его, оно должно постоянно воспроизводить дистанцию, отделяющую его от остального общества, подчеркивая его «не-европейский» характер, воспроизводя не-субъектность, через это получая право на власть. Иными словами, остальное общество должно оставаться вечным «недо», тем, что требует предпринимаемых вновь и вновь усилий по его оцивилизированию и каждый раз требующих новых усилий того же рода. Дурная повторяемость и пустота истории, укрепленная в сознании, отражает данную ситуацию – история должна быть таковой, поскольку только через это укреплен статус образованного общества по отношению к остальному и это же обрекает само образованное общество на переживание пустоты исторического, поскольку каждое усилие должно самоотменяться в сознании, на новом уровне воспроизводя прежнюю схему отношений.
Догоняющая модернизация, удавшись, предполагает – для возможности дальнейшего движения по иной траектории – и преодоление подобного восприятия, с обоснованием своего статуса через «воображаемую Европу»; простое воспроизводство уже существующих схем и моделей не даст успеха, а так и оставит в рамках вечного догоняющего, вынуждая теперь уже опираться на возможность предложить «иное», пока еще не существующее, трансформировать свой собственный опыт, а не пытаться воспроизвести уже существующий иной. Собственно, это вновь проблема переживания своего опыта, проживания себя в этом месте и времени и, следовательно, потребность в «нормализации» истории. Традиции, разумеется, «изобретают» – но вот только термин «изобретение» способен удалить нас от существа дела, поскольку самими субъектами традиции, творящими ее, она переживается как «открываемое», то, что адекватно самоопределению, что осознается как часть собственной идентичности – а «экспроприация прошлого», «изобретение традиции» оказываются особым опытом «работы над собой», делая реальностью то, что было «только» идеей.
Дебаты о народности
Данное эссе не претендует на раскрытие истории «русского национализма» (менее привычно, но точнее было бы говорить о «русских национализмах» во множественном числе – и в исторической последовательности, и в синхронии) – моя задача попытаться обрисовать общие контуры феномена. Поскольку всякую подобную попытку можно назвать, в силу масштаба задачи, «покушением с негодными средствами», необходимо оговорить принципиальные установки, долженствующие скорректировать интерпретацию нижеследующего текста.
Сущность «новой имперской истории» сторонники данного подхода описывают так: она «посвящена изучению империи не как “вещи”, формальной структуры власти или экономической эксплуатации, а как “имперской ситуации”. Для нее характерно не просто крайнее разнообразие общества и разношерстность населения, но принципиальная несводимость этого разнообразия к какой-то единой системе» (Империя и нация, 2011: 8–9). С тем же правом это применительно и к процессам нациестроительства; варианты видения «нации» и споры вокруг нее, государственная политика и общественное мнение – «ситуация», в которой разворачиваются действия многочисленных субъектов. Результат их действий зачастую имеет мало общего с намерениями как инициаторов, так и оппонентов – русский(е) национализм(ы) формируе(ю)тся в сложной ситуации одновременного взаимодействия с активно трансформирующейся в XIX веке империей, национальными движениями в других странах (на эти зарубежные национализмы постоянно оглядываются как империя, так и национальные движения внутри ее), местными национальными движениями.
Если тезис о конструктивном характере «нации» стал общим местом в исследованиях национализма, то в исследованиях, связанных с вопросами «русского национализма», последний зачастую предстает как феномен государственной политики преимущественно на «окраинах» империи. Нередко недостаточно обдуманно используется введенный Б. Андерсоном образ нации как «воображаемого сообщества», однако в этом смысле любое сообщество будет «воображаемым», обретающим реальность только в сознании составляющих его индивидов или внешних наблюдателей. Андерсон вкладывает в свой образ значительно более сильное утверждение – «нация» «воображается», создается усилиями какой-либо группы, и затем этот образ транслируется, утверждается, испытывая соответствующие трансформации.
Субъектами в большинстве исследований оказываются, с одной стороны, имперская администрация, как правило, слабо дифференцированная и выступающая в качестве абстрактной «власти», а с другой стороны – местные («инонациональные», «инонародные») сообщества, реагирующие или активно воздействующие на государственную политику (этот аспект затрагивается существенно реже). Даже в революционной для отечественной историографии работе Алексея Миллера (Миллер, 2006) преобладает взгляд «сверху» – выпадает из рассмотрения та среда, те группы, в которых формируются «образы нации», которые конкурируют за общественное влияние и за возможность влиять на национальную политику Российской империи.
В результате произошел «явный перекос в сторону изучения сообществ, механизмов и дискурсов управления, конфессиональных и прочих идентичностей пограничья, в то время как “русские” и “центр” (за некоторыми важными исключениями) оказались за кулисами данного действа <…> Соответственно в историографии империи есть “нерусские” народы, а “русские” в качестве подданных, а не абстрактных не-инородцев так и не появились. Аналитики социо-гуманитарных исследований признают, что “центр” и “русский вопрос” как самостоятельные проблемы применительно к истории Российской империи сейчас почти не изучаются» (Вишленкова, 2011: 11). Русский национализм носил не только реактивный, но и активный характер – интеллектуальные и общественные движения, его составляющие, во многом определяли условия действия имперской власти, в свою очередь разнообразно использовавшей эти общественные силы: опыт включения русского национализма в имперскую повестку, попытки трансформировать достаточно архаичную империю в империю, опирающуюся на оформленное «национальное ядро», были решающими для ситуации 1880-1890-х годов. Пытаясь обрести новую опору в русском национализме, империя провоцировала конфликты с иными наличествующими или формирующимися национальными движениями и в то же время лишала себя большинства традиционных средств их разрешения. Русский национализм нес в себе изначальный конфликт, будучи национализмом «имперской нации», определяющей себя по отношению к империи через отождествление с ней и одновременно через растождествление: долженствующий скрепить империю через нового субъекта – нацию, он разрывал империю через выделение тех или иных элементов, не способных (сейчас или принципиально) стать частью нации.
«Нация» и «народность» в их переплетении
История слов нередко способна рассказать больше, чем традиционное историческое повествование – в особенности в тех случаях, когда слова означают избыточно много и тексты, отстоящие друг от друга на несколько десятилетий, внешне говорящие об одном и том же, при достаточном приближении к предмету оказываются объединенными лишь на уровне слов.
Спорить о «нации» и взывать к ней начинают в первые десятилетия XIX века – в эпоху революции и наполеоновских войн, в период, который для нашего взора зачастую разделяется цезурой «неизвестных и непонятных событий» между Термидором и Брюмером, но который для современников (особенно тех, кто наблюдал его из петербургского или московского отдаления) был единой «Революцией». «Нация» в этих разговорах – это гражданская нация, тот самый «народ» в другой фразеологии, являющийся сувереном, единственным источником власти. Впрочем, эта «нация», под которой подразумевается нация политическая, обладающая субъектностью, оказывается едва ли не с самого начала переплетена с «нацией» романтиков – не той, которую надлежит создать через Учредительное собрание, но уже данной в истории, для которой время политическое – лишь момент проявления.
Политическое напряжение, чувствительное для власти в самом слове «нация», приведет в 20-е годы к его вытеснению из печати, на смену ему придет «народность», удобная своей размытостью. Алексей Миллер, анализируя историю понятий «нация» и «народность» в первой половине XIX века, отмечает: «В 1820-е годы в имперских элитах постепенно растет настороженность, и с начала 1830-х годов оформляется ясно выраженное стремление вытеснить понятие нация и заместить его понятием народность. С помощью этой операции надеялись редактировать содержание понятия, маргинализировать его революционный потенциал» (Imperium, 2010: 60).
Опережая уваровскую формулу, в журналистике 1820-х начнутся «споры о народности» с противопоставлением «народности» и «простонародности», где «народность» будут определять через «верность духу народа», а не те или иные конкретные исторические формы. Народность оказывается и искомым, и повсеместно присутствующим, тем, что возможно «почувствовать», но затруднительно определить – неким «пустым местом», позволяющим наделять его необходимыми смыслами. Уже в Манифесте от 13 июля 1826 года, опубликованном после завершения суда над декабристами, присутствует знаковый смысловой поворот:
«Все состояния да соединятся в доверии к правительству.
В государстве, где любовь к монархам и преданность к престолу основаны на природных свойствах народа (выделено мной. – А. Т.), где есть отечественные законы и твердость в управлении, тщетны и безумны всегда будут все усилия злоумышленных. <…> Не от дерзостных мечтаний, всегда разрушительных, но свыше усовершаются постепенно отечественные установления, дополняются недостатки, исправляются злоупотребления».
Декабристское же восстание интерпретируется в Манифесте в рамках типичного для романтизма противопоставления «истинного» и «ложного» просвещения:
«Не просвещению, но праздности ума, более вредной, нежели праздности телесных сил, – недостатку твердых познаний должно приписать то своевольство мыслей, источник буйных страстей, сию пагубную роскошь полупознаний, сей порыв в мечтательные крайности, коих начало есть порча нравов, а конец – погибель».
Только что созданное III Отделение в отчете за 1827 год пугает власть «русской партией»:
«Молодежь , т. е. дворянчики от 17 до 25 лет, составляют в массе самую гангренозную часть Империи. Среди этих сумасбродов мы видим зародыши якобинства, революционный и реформаторский дух, выливающийся в разные формы и чаще всего прикрывающийся маской русского патриотизма <…> Экзальтированная молодежь, не имеющая никакого представления ни о положении России, ни об общем ее состоянии, мечтает о возможности русской конституции, уничтожении рангов, достигнуть коих у них не хватает терпения, и о свободе, которой они совершенно не понимают, но которую полагают в отсутствии подчинения» (Россия под надзором, 2006: 22).
Уваров, получивший в 1830-е годы carte blanche на идеологию, предпримет амбициозную попытку «перехвата» романтических учений о «народности», выросших в атмосфере «освободительной войны» в Германии (1813). В русских условиях «народности» нет нужды создавать политического субъекта – восстанавливать германский рейх, – поскольку этот субъект уже наличествует в лице Российской империи. Как раз напротив, возможные оппоненты власти – среднее дворянство, почувствовавшее свою силу и обретшее корпоративное сознание в краткий период наполеоновских войн, – оказываются в ситуации, когда возможная риторика «народности» взята уже на вооружение властью, опирающейся в этом одновременно на формирующуюся бюрократию и мещанство. Идеологическая конструкция, предложенная Уваровым, имеет, однако, фундаментальную слабость – она принципиально предполагает ограниченную и закрытую аудиторию, к которой обращена, – условно говоря, те поднимающиеся социальные группы, которые проходят через русские гимназии и университеты, где они должны подвергнуться «обработке» в духе «официальной народности»; читатели русскоязычной прессы, плотно контролируемой Министерством просвещения (Зорин, 2004: гл. X). Но эта же идеологическая конструкция не может включить в свои рамки западные окраины империи (Остзейские губернии и Царство Польское), она не может быть артикулирована как «собственная речь» высшими правящими кругами империи – принципиально вненациональными, чья идеология остается идеологией династической преданности, когда местные аристократии заключают договор о преданности империи, но отнюдь не «русской народности».
Впечатанная в уваровскую формулу «народность» станет «неопределенным третьим», обретающим осмысленность через два первых члена – «православие» и «самодержавие», придавая им флер исторической глубины и «органичности». В циркуляре Министерства народного просвещения от 27 мая 1847 года разъяснялось, что «русская народность» «в чистоте своей должна выражать безусловную приверженность к православию и самодержавию», а «все, что выходит из этих пределов, есть примесь чуждых понятий, игра фантазии или личина, под которою злоумышленные стараются уловить неопытность и увлеченность мечтателей» (Лемке, 1904: 190). Быть православным, «без лести преданным» подданным своего монарха – вот, собственно, к чему сводится «народность» в практическом истолковании, и отсюда же возникает внешне парадоксальная ситуация, когда все добровольные истолкователи «народности», начиная с Погодина, оказываются неудобными для власти. Единственное правильное здесь – воздерживаться от любой интерпретации, повторяя «народность» как мантру и используя обвинение в «ненародности» против тех, кто уже и так помечен в качестве политического противника.
Империя в 1830-1840-е стремится задействовать потенциал возможного «национального направления», но практическая реализация ограничена «русским стилем» К. А. Тона, сосуществующим с псевдоготическими постройками петергофской Александрии. Важны не отсылки к конкретному прошлому, а к прошлому как таковому. В подкладке существенное содержание ограничивается легитимизмом постнаполеоновской эпохи: «народность» должна в противоположность «нации» оставаться пустым местом, быть фиксацией политической бессубъектности.
Программы нациестроительства 1860-х годов
Кризис империи 1850-х годов, внешним проявлением которого стало поражение в Крымской войне, привел к осознанному выбору в пользу кардинальных реформ и одновременной либерализации режима. Последняя вывела наружу все те процессы, которые с разной степенью интенсивности развивались под стремящимся к единообразию имперским фасадом. На повестку дня стал национальный вопрос: подобно тому как восстание 1830–1831 годов заставило считаться с национализмом и попытаться аккумулировать и одновременно нейтрализовать патриотические настроения, выдвинув доктрину «официальной народности», либерализация второй половины 1850-х – начала 1860-х проявила целый ряд сформировавшихся или находящихся в процессе формирования национальных течений.
Вплоть до 1863 года рост подобных периферийных национализмов особенного беспокойства не вызывал – будущий «столп» русского национализма Катков охотно помогал украинофилу Костомарову в «Русском вестнике», а редакция славянофильского журнала «Русская беседа» старалась угодить лидеру тогдашнего украинофильства Кулишу, добиваясь его повестей для своего издания. «Польское дело» оказывалось в «области умолчания» – выступать против поляков было немыслимо, активно поддерживать их – равно невозможно, поскольку это означало бы поддержку притязаний к отделению от империи. Неопределенные либерально-демократические стремления разной степени радикальности были всеобщими – от прежних лозунгов и идеологических символов отказались, новые так и не были определены. Стремление к реформам и преобразованиям было всеобщим, прежний имперский патриотизм был разрушен в обществе катастрофой конца николаевского царствования, новые политические ценности и смыслы оставались неопределенными.
1863 год стал решающим в истории русского национализма – январское восстание в Польше стимулировало формирование национального самосознания. Если выступать против польского национального движения русское образованное общество было не готово, то претензии польского восстания на создание Речи Посполитой в границах до 1772 года, действия повстанцев на территории юго-западного и северо-западного краев способствовали возникновению «оборонительного национализма» в ответ на угрозу, формированию первичной политической национальной идентичности в ответ на возможность утраты территорий, воспринимавшихся как часть «России». Катков, посреди почти абсолютного молчания в русской журналистике, решительно выступил против восставших – и оказался голосом «безмолвствующего большинства». Провозглашая ценность государства, поддерживая позицию целостности империи и борьбу с повстанцами, он впервые употреблял слова, которым ранее не было места в русской журналистике: «национализм» и «государственничество» за пределами официоза. Это было открытие «общественного мнения»: внезапно для всех – для власти и оппозиции – обнаружилось, что в стране есть общество, и сила Каткова состояла в его способности в эти годы явиться его выразителем и направителем. Катков заговорил от лица нации – не оформленной, но уже переставшей быть исключительно объектом управления, обретающей собственную субъектность. И если на первых порах это движение встретило поддержку со стороны имперской власти, поскольку оказалось необходимой опорой в ситуации внешне– и внутриполитического кризиса, то вскоре противоречия стали быстро нарастать в силу понятной невозможности «управлять» обществом, не вступая с ним в диалог, используя исключительно «в меру надобности».
Польское восстание привело к оформлению нескольких ключевых политических позиций по национальному вопросу, претендовавших на возможность реального осуществления в государственной политике:
1. Катковская программа, предполагавшая в качестве определяющего признака нации «культуру» и ориентированное на французский опыт нациестроительство. Применительно к «польскому вопросу» это означало господство принципа real politic – удержание Польши под своей властью, поскольку любое другое решение приводило бы к еще большим политическим издержкам (возникновение независимой Польши с территориальными притязаниями на земли Украины и Белоруссии). Русские в этой перспективе мыслились как «имперская нация», открытая по культурному принципу и проводящая активную политику ассимиляции иных национальных групп. Трансформация империи предполагалась как создание национальной метрополии – с имперской политикой в отношении окраин (политика «гегемонии» в отношении Финляндии и Польши) и колонизационной политикой в отношении «восточных» и «южных» колоний (Тесля, 2011а).
2. Славянофильская программа, предполагавшая трансформацию империи с образованием «национального ядра» по типу национального государства на конфессиональной основе («русский – в первую очередь православный»), что требовало этноконфессиональной демаркации. Для упрочнения национального состава в отношении Польши цель мыслилась как образование Польского государства «в этнических границах», а на территориях, бывших предметом спора, «укрепление» (то есть создание) общерусской («русской») идентичности (Тесля, 2011б).
3. «Валуевская» программа, выраженная в докладных записках и конкретных действиях министра внутренних дел. Она предполагала ставку на «политическую нацию» (в терминологии конца XVIII – начала XIX века), то есть компромисс между аристократическими элитами, и наднациональную политику – инкорпорацию «западных окраин» путем предоставления политических прав (образование единого политического пространства, совпадающего с границами империи).
Каждая из этих программ достаточно отчетливо фиксировала тот социальный слой, на который она опиралась. Это и делало «проекты будущего» если и не в равной мере реалистичными, то во всяком случае предполагавшими конкретные политические программы ближайших десятилетий. «Валуевский» проект был ставкой на плавную трансформацию империи, в которой высшее правительство покупало поддержку местных элит, давая им доступ к политической власти в центре посредством создания ограниченной представительной системы. Иначе говоря, на смену прежней политики управления на местах посредством местных элит и личного инкорпорирования в центральное правительство предполагалось допустить групповое инкорпорирование с возможностью дальнейшего понижения планки представительства – по мере того как все новые социальные группы оказывались бы вовлечены в публичную политику (Захарова, 2011: 400–410).
«Катковский» проект, в отличие от «валуевского», делавшего ставку на высшую аристократию и буржуазию, был ориентирован на буржуазию и средние слои общества. Он предлагал формирование нации модерного типа, взаимодействующей с традиционными имперскими группами через систему представительства, построенную на имущественном цензе.
«Славянофильская» же программа мыслилась как трансформация традиционного общества – со ставкой на демократизм (в противовес элитарному катковскому либерализму), где центральная власть должна была взять на себя роль инициатора реформ, сохраняя свой неограниченный характер с широкими полномочиями низовых общин. Предполагалось конституирование нации через апелляцию к традиционным конфессиональным признакам, когда прежняя «внешняя» конфессиональность трансформируется в осознанную идентичность на основе модерного типа религиозности.
В качестве своеобразного промежуточного варианта между «катковским» и «славянофильским» проектами выступало «почвенничество», делавшее ставку не на крестьянство и дворянство, а на средние слои общества с принятием в качестве основополагающего конфессионального критерия.
Напряженность ситуации и рост местных национализмов объясняют готовность центральной власти обсуждать и отчасти даже следовать подобным программам, что проявилось в политике в северо-западном крае в 1863–1868 годах. Однако по мере того как кризисная ситуация миновала и с проблемами удалось справиться без привлечения общества, готовность императорской власти следовать национальной политике в любом из двух основных ее вариантов («катковском» и «славянофильском») уменьшалась – отдельные принятые меры так и оставались эпизодическими акциями, причем преобладали действия репрессивного плана (Комзолова, 2005). Помимо прочего, для позитивной национальной политики не хватало ресурсов и сознательной политической воли. Тем не менее нежелание императорской власти двигаться по пути националистической политики имело вполне глубокие рациональные основания. Как неоднократно отмечал Александр II, главным препятствием к дарованию какой бы то ни было конституции было сомнение в возможности при конституционном правлении сохранить империю. Центральная власть прибегала к политике промедления, реагируя на сиюминутные проблемы и противодействуя в той или иной степени на протяжении первой половины 1860-х – начала 1870-х годов как периферийным национализмам, так и различным вариантам русских национальных движений.
Проблемные пункты русского национализма
Русский национализм формировался в 1860-1870-е годы в ситуации активного противоборства и внутренней полемики не только, а зачастую и не столько с традиционным имперским проектом, сколько в столкновениях по нескольким основным проблемным пунктам, где состав противоборствующих сторон и их программы были сложны, разнообразны и не сводились к простым схемам. Постараемся выделить основные.
1. «Польский вопрос». Польша была «больным местом» Российской империи – Царство Польское, созданное на основе Великого герцогства Варшавского по решению Венского конгресса, оказалось самым вредным по последствиям приобретением. Причем винить в данном случае империи приходилось только саму себя – даже официальное название территории, возрождавшее призрак самостоятельной польской государственности, было выбрано по настоянию императора Александра I (Австрия и Пруссия, другие участники разделов Речи Посполитой всячески стремились отговорить Россию от подобного решения). Новообразование получило собственную конституцию (что вызвало взрыв негодования в русском обществе – начиная от крайних традиционалистов вроде Шишкова и заканчивая крайним либералом князем Вяземским), собственную армию (которая стала ядром восстания 1830 года), самостоятельную финансовую систему и т. д. Императорское правительство обсуждало планы расширения территории Царства за счет передачи ряда губерний, вошедших в состав империи по результатам III раздела. Отметим попутно, что возмущение «польской политикой» Александра I было важным моментом в формировании декабристского движения, для которого существенна националистическая составляющая (на тот момент достаточно слабо внутренне дифференцированная).
Польское восстание 1830–1831 годов, во внутрироссийской политике приведшее к повороту к «народности» в стремлении опереться на патриотические общественные чувства, было подавлено военной силой, но не решено политически. Установившийся в Царстве Польском режим военной диктатуры в наместничество Паскевича фактически явился признанием неспособности решить «польский вопрос»: империя действовала в отношении Царства непоследовательно, рассматривая его то как оккупированную территорию, то как автономное образование, имеющее свои квазиконституционные права (например, в финансовой области). Поляки подвергались дискриминации на территории Царства, для них были закрыты многие государственные должности, был ликвидирован Варшавский университет, однако в то же время польские выходцы активно назначались на государственные должности на иных территориях империи – по мнению центральных властей, это должно было вести к «обрусению» поляков, позволяя, с одной стороны, в условиях кадрового голода решать проблему замещения чиновничьих мест квалифицированными людьми, а с другой – нейтрализовать «вредные тенденции», присутствующие в польских образованных классах (в том числе за счет территориального размывания представителей этих классов).
Испробованная в «эпоху» маркиза Велёпольского либеральная политика в отношении Польши привела лишь к январскому восстанию 1863 года, поставившему империю на грань дипломатической катастрофы и общеевропейской войны (по крайней мере, так ситуация представлялась на тот момент из Петербурга). Кризисная ситуация открыла возможность для нестандартных мер – под руководством Н. А. Милютина империя решилась затронуть социальный баланс в Польше, проведя крестьянскую реформу с огромными преференциями для местного крестьянства. Получив его себе в союзники, империя лишила этого союзника шляхты (и тем самым на долгое время обессилила антирусские настроения в Польше) и одновременно открыла польскую экономику для немецких (прусских) капиталов, ослабляя польских промышленников и сельских хозяев.
Однако все эти тактически весьма эффективные меры не могли решить ключевую проблему. В состав империи входило национальное образование, чей культурный и экономический уровень значительно превышал соответствующий уровень метрополии и, что не менее важно, где существовало развитое национальное движение. Собственно, в ответ на вызов последнего и стало формироваться широкое русское национальное движение, поддержанное имперской властью. Было очевидно, что в северо-западных губерниях недостаточно противопоставить полякам, являвшимся там культурно и экономически преобладающими элементами, русскую администрацию. Проблема, с которой столкнулся формирующийся русский национализм, состояла в том, что ему мало что было противопоставить польскому. Как отмечал И. С. Аксаков (и в чем с ним, пусть и более чем неохотно, вынужден был по существу соглашаться М. Н. Катков), польская культура в этих губерниях оказывалась синонимом культуры как таковой, сильная не только сама собой, но и тем, что выступала «местной формой» культуры европейской. Повышение социального статуса означало одновременно и сближение с польской культурой. Фиксация слабости русской культуры побуждала, с одной стороны, русский национализм к осознанию своих внутренних проблем, с другой – к разработке изощренных программ (взаимодействия административных и культурных мер, одновременного вытеснения поляков из края и расширения в нем русской культуры, попыткам разорвать связь между католичеством и польским национальным движением через введение богослужения на русском и литовском языках).
Собственно «польский вопрос» оказывался тупиком во взаимодействии русского национализма с империей, равно как и ее основной проблемой.
Во-первых, русский национализм не имел никакого приемлемого рецепта сохранения Царства Польского в составе империи – наиболее последовательной, но практически неосуществимой оставалась программа И. С. Аксакова, предполагавшая принудительное ограничение Польши ее «этнографическими границами» и «развод» с империей.
Во-вторых, традиционные методы имперского господства не срабатывали в Польше: приобретенная по Венскому конгрессу, она оказывалась более развитой по сравнению с метрополией, но в то же время слишком крупным целым, чтобы исчезли все надежды на возможность самостоятельного существования. Она не могла функционировать по модели «анклава», наподобие Остзейских губерний, и равным образом не могла быть русифицирована, оставаясь постоянным источником скрытой или явной угрозы для империи вплоть до Первой мировой.
2. Украинофильство. С «украинским вопросом» ситуация выглядела куда более оптимистично, чем с «польским»: если в последнем случае приходилось иметь дело с развитым и оформленным национальным движением, то на Украине речь шла преимущественно о «культурном национализме», причем находящемся на первой стадии своего развития – интеллигентской кружковщине.
Логика действий, которые необходимо предпринять, была вполне очевидна для части высшей администрации, ориентированной на опыт западноевропейского нациестроительства. Местный национализм нужно было лишить местной базы посредством системы начального и среднего обучения, привнесением «великорусской» культуры: крестьянство, сохраняющее местную культуру, должно было по мере получения образования втягиваться в культуру великорусскую, всякое продвижение по социальной иерархии (училища, классические, реальные и военные гимназии, университет) должно было сопровождаться усвоением великорусской культуры. Тем самым местный культурный национализм должен был утратить свою базу – перехваченные более развитой городской русскоязычной культурой, поднимающиеся социальные слои выбывали бы из числа потенциальных сторонников украинофильства; русский язык как язык управления, культуры, образования и развлечений оказывался бы безальтернативным.
Однако подобная логика (сознательно ориентированная, в частности, на унифицированную школьную политику III Республики) сталкивалась с двумя трудностями:
– во-первых, противостояние в юго-западном крае было не между «великорусской» и «украинской» культурой – там присутствовал третий, польский элемент. Опасения, вызванные польскими притязаниями (вооруженно заявленными в 1830–1831 и 1863 годах), приводили к тому, что центральная власть готова была идти на компромиссы в отношении украинских националистических движений, воспринимая некоторых из них как возможных союзников в борьбе с польским влиянием; в борьбе за культурное преобладание и «великорусская», и польская стороны рассматривали разнообразные направления украинофилов как потенциальных союзников, что приводило к противоречиям в имперской политике; репрессивные меры сменялись «послаблениями», в результате не столько противодействуя, сколько раздражая и консолидируя оппонентов власти;
– во-вторых, если желательная политика представлялась вполне отчетливо, то куда больше сомнений вызывала способность власти ее проводить. И министр внутренних дел П. А. Валуев (1861–1868), и генерал-губернатор юго-западного края кн. А. М. Дондуков-Корсаков (1869–1878), скептически отзываясь об имперской политике на Украине, указывали, что на практике у империи хватит сил на отдельные репрессивные меры, но последние сами по себе бесплодны, а рассчитывать на долговременную позитивную программу не приходится как по недостатку средств (например, на развитие начального образования на великорусском языке), так и по недостатку государственной воли. Хорошо знакомые с практикой имперского управления, они полагали, что фактически не приходится надеяться на политику, выходящую за пределы реактивной схемы (Миллер, 2000: гл. 7).
3. «Остзейский вопрос» традиционно занимал большое место в русской националистической риторике, поскольку остзейское рыцарство с XVIII века было одним из основных поставщиков кадров в высшую русскую администрацию, а его культурный уровень, связи и групповая сплоченность, вместе с очевидной инокультурностью, делали его роль заметной и раздражающей.
Российская империя и в XVIII веке продолжала расширяться, используя традиционную модель соглашения с местными элитами – они сохраняли свое прежнее положение и получали более или менее широкий доступ в центральную администрацию, а взамен этого платили лояльностью. Особенностью «остзейцев» было то, что в их услугах центральная администрация была заинтересована в большей степени, чем в привлечении к центральному управлению каких бы то ни было других групп. По мере же того как традиционная домодерная империя входила в условия модерной политики, данная модель вызывала все большее раздражение в русских элитах, полагавших себя в сравнении с остзейцами обделенными (можно вспомнить хотя бы хрестоматийное обращение Ермолова, просившего у государя «сделать его немцем»).
Специфика остзейской ситуации заключалась и в том, что правящая элита была инокультурна большинству населения провинций – она не могла на него опереться, а использовала его как ресурс давления на власть, в связи с чем основным источником силы «остзейцев» становилось их уникальное положение в государственном аппарате. Они получали право на почти бесконтрольное управление губерниями в обмен на династическую преданность – империя использовала их как идеальных имперских администраторов, преданных правительству как таковому. Собственно, проблемы стали нарастать с активизацией германского политического национализма – по мере того как складывался и набирал силу Второй рейх, остзейские подданные становились все менее удобными, поскольку теперь (в отличие от ситуации «Германия как географическое понятие») их лояльность оказалась разделенной. Некоторое время ситуация оставалась относительно стабильной, но уже с конца 1870-х годов, после того как союз с Германией оказался под вопросом, а тем более со смены в 1880-е внешнеполитической ориентации на союз с Францией, императорское правительство начинает все активнее поддерживать «русификаторские» настроения, а затем и активно проводить их на практике.
4. «Славянский вопрос». Во внешнеполитическом плане русский национализм 1860-1870-х годов предлагал на первый взгляд весьма соблазнительную трансформацию традиционной имперской повестки – «южный проект» превращался в славянско-православный, одновременно предполагающий возможность обращения его как против Османской империи, так и потенциальное использование против Австрии.
Восточное направление русской внешней политики XVIII – первой половины XIX века традиционно имело ярко выраженную конфессиональную составляющую, для нее была привычна идея использовать симпатии единоверцев против Османской империи (Зорин, 2004: гл. I; Проскурина, 2006). Напротив, «панславистские» идеи вызывали по меньшей мере настороженность; не только славянофилы, такие как Ф. В. Чижов или И. С. Аксаков, но и лояльный М. П. Погодин в этом отношении воспринимались с подозрением – Чижов был арестован после поездки по славянским землям и допрашиваем о связях со славянами (Пирожкова, 1997: 96), с Аксакова при заключении в Петропавловской крепости в 1849 году брали показания о панславистских идеях (Аксаков, 1988: 505–506) – «славянский вопрос» в то время выглядел привлекательным скорее для революционных проектов, таким он был в глазах М. А. Бакунина (Борисёнок, 2001).
Неудача в Крымской войне, утрата влияния в Османской империи и одновременное превращение Австрии из союзника в потенциального противника, а в текущий момент как минимум в конкурента на Балканах, привели к тому, что для империи оказалось перспективным попытаться использовать национальные движения западных и южных славян в своих интересах. Речь шла не о радикальном повороте политики, но скорее о рассмотрении возможности использовать славянские движения как один из инструментов внешней политики (Аксаков, 1896: 17–24). На протяжении 1860-х – первой половины 1870-х годов «славянское» движение имело весьма ограниченное влияние – славянское благотворительное общество, основанное в 1858 году (с 1877 года – комитет), привлекало немногих энтузиастов; «славянский отдел» в аксаковском «Дне» существовал исключительно как отражение взглядов издателя, не встречая интереса у публики. Так, повествуя об успехе своего издания у публики, И. С. Аксаков писал М. П. Перовскому
04. XI.1861: «Газета моя имеет успех положительный <…> и читается нарасхват: читается даже Славянский отдел!» (Русская беседа, 2011: 438). В глазах правительства «славянское» движение внутри страны и связанные с ним внешнеполитические возможности были удобным инструментом, могущим быть при случае эффективно использованным для реализации своих целей в османских делах или как средство воздействия на Австрию (Австрия проводила в некоторой степени аналогичную политику в отношении поляков и украинцев). Так, при всех симпатиях общества к болгарам в ходе греко-болгарской церковной распри правительство воздержалось от поддержки «славян», предпочтя не вставать однозначно на сторону какого-либо одного из участников церковного раскола.
Национальное движение показало свою силу в 1876–1877 годах, когда, используя влияние при дворе для получения разрешения на публичную пропаганду своих взглядов, сумело фактически втянуть империю в войну с Турцией, несмотря на сопротивление практически всех членов правительства. Тем самым впервые была продемонстрирована возможность быстрой мобилизации общественного мнения и его политическое влияние (Милютин, 2009; Валуев, 1919: 5-10). Неожиданно тяжелый ход войны и воспринятый как «позорный» Берлинский трактат убедили высшую власть в том, что национальное движение является не таким уж удобным объектом управления и его цели могут радикально расходиться с направлением правительственной политики. Непривычный опыт взаимодействия с общественным мнением вызвал и неоправданно резкую реакцию на выступление Аксакова против Берлинского трактата, когда не только сам Аксаков был подвергнут высылке (что еще укладывалось в традицию и ожидалось самим виновником событий), но последовало и закрытие Славянского комитета в Москве (Никитин, 1960). Опыт Русско-турецкой войны 1877–1878 годов и последующих балканских событий, с одной стороны, надолго избавил правительство от соблазнов использовать «славянскую карту» в масштабной имперской политике (Половцев, 2005: 407; Милютин, 2009), с другой – подорвал влияние остатков славянофильства при определении конкретной программы правительственных действий в условиях националистического поворота 1880-х годов (Тесля, 2011в).
Style Russe
1880-е приносят новую повестку дня, когда центральными оказываются противоречия в рамках националистических программ и способы сопряжения имперской и национальной политики. Они не снимают рассмотренных проблем, однако переводят их обсуждение в качественно иной формат, что выражается в характерном, радикально отличном от предшествующего, облике эпохи Александра III.
Царствование Александра III на первый взгляд может представляться «золотым веком» русского консерватизма и русского националистического движения. Все внешние признаки налицо: подзабытая за 1860-1870-е годы формула «православие, самодержавие, народность» была восстановлена в своих правах, с либеральными реформами после недолгого колебания было покончено, министерские назначения служили символом готовности действовать без оглядки на общественное мнение. Один облик нового императора уже служил готовой программой – борода (которую он получил право носить как участник Русско-турецкой войны 1877–1878) в рамках семиотики бытового поведения была сама по себе много значащим знаком; перемены в форме, настойчивое использование в общении только русского языка; грубость в обращении интерпретировалась благожелательными наблюдателями как патриархальная простота нравов. На смену отцовскому «сценарию любви» Александр III предложил «сценарий силы», начиная с самого банального – силы физической, подчеркивая собственные данные как проявление природной мощи, чему, правда, вскоре стала препятствовать рано наступившая избыточная полнота. Если образ «России сосредотачивающейся» предложил Горчаков за два десятилетия до воцарения Александра III, то последний придал этому образу художественную убедительность. Лев Тихомиров в конце жизни вспоминал:
«Император Александр III умел вызвать в России высокий подъем национального чувства и сделаться представителем национальной России. Он достиг также упорядочения государственных дел. Не изменяя образа правления, он сумел изменить способ правления, и страна при нем стала с каждым годом сильнее развиваться и процветать. При таких условиях в революцию никто не хотел идти» (Тихомиров, 2000: 460).
Консервативный лагерь (при всей неопределенности данного термина) встретил воцарение Александра III как новую надежду – в тот момент, когда, казалось бы, всякие надежды приходилось уже оставить. В конце 1870-х общественная атмосфера была практически безраздельно захвачена либеральными настроениями разной степени крайности и определенности – и высшая бюрократия не составляла здесь исключения. В ситуации после 1 марта продолжение прежнего курса представлялось безальтернативным – если бы не решительные действия Победоносцева, сумевшего убедить молодого монарха в возможности следовать «собственной воле». Начавшийся поворот был ознаменован внешне бессмысленным апрельским манифестом, означавшим отказ от «политики уступок обществу».
Первые годы царствования Александра III обратились в «медовый месяц» русского консерватизма – самые разнообразные силы правого толка на тот момент были едины в необходимости разорвать с непоследовательной политикой предшествующего царствования, подавить революционное движение, «умиротворить» страну. Но к 1883–1884 годам единство консервативного лагеря оказалось разрушено: в 1883 году закончилось «тактическое единомыслие» Аксакова с Катковым, в 1884-м радикально испортились отношения двух столпов правительственного консерватизма – Победоносцева и Филиппова (Пророки, 2012: 272), разлад между Победоносцевым и Аксаковым случился еще в 1882 году (Полунов, 2010: 181, 245). Происшедшее, разумеется, совершенно неудивительно – единство консервативного лагеря основывалось исключительно на «негативной повестке». Когда она была в целом реализована, встал вопрос о выборе дальнейшего пути. Возникла потребность в позитивной программе, и оказалось, что русский консерватизм представляет собой даже более пестрое и сложное явление, чем либеральный лагерь.
Собственно, в нем почти сразу выделились три направления, первоначально объединенные тактическим союзом.
Первое направление, которое условно можно назвать «бюрократическим» консерватизмом, серьезного интереса не представляет. Оно было ориентировано на идеализированный и подретушированный образ николаевского царствования, сворачивая прежние реформы там, где они ограничивали возможности административного вмешательства (земства, университеты и т. п.), но не располагая никакой программой дальнейших действий.
Намного более интересен «религиозный консерватизм», видной фигурой которого стал популярный в кругу иерархов Русской православной церкви Тертий Иванович Филиппов (популярность и слухи о его кандидатуре как возможного патриарха стали одним из препятствий к занятию им поста обер-прокурора Священного синода). Для данного крыла православие было важнее, чем государство, – целью мыслилось «освобождение Церкви», избавление от «Феофанова» наследия, возрождение России как «православного царства». Сама же реформа церкви, проговариваемая как возвращение к каноническому устройству, предполагала ставку на высших церковных иерархов – в отличие от славянофильских представлений о необходимости приходской реформы.
Третье направление, «националистическое», в свою очередь, было представлено двумя основными программами: катковской и аксаковской. Они кратко уже были рассмотрены выше, однако с 1860-х годов произошли довольно существенные изменения, коснувшиеся в первую очередь аксаковской программы. Для Аксакова в 1860-е годы речь шла о формировании нации на основе конфессионального принципа, что позволяло говорить о большой «русской» нации, включавшей велико-, мало– и белорусов. Однако развитие местных национализмов, с одной стороны, и явное ослабление конфессионального принципа – с другой сделало к 1880-м годам эту программу явно нереалистической: конфессиональная идентичность на глазах утрачивала свою определяющую роль, а альтернативы ей в аксаковской схеме не предвиделось.
Для аксаковского видения национальной программы решающую роль имело общество – именно оно должно было стать активным субъектом, собственно, ядром нации. При всей противоречивости суждений Аксакова его подход оставался принципиально либеральным – минимальное государство с развитием земщины; общество, осуществляющее свое давление на власть не путем конституционных гарантий, но через «власть мнения» – в лице Земского собора, свободной прессы и т. д. (Тесля, 2011в).
Напротив, катковское видение нации предполагало последовательную реализацию «наполеоновской программы»: правительство, действующее в режиме «популярной диктатуры»; формирование национального единства как единства культурного, правового и экономического (активная русификаторская школьная политика, формирование единого экономического пространства, «железные дороги», долженствующие сплотить «Великую Россию», как они создали единство «Прекрасной Франции») (Санькова, 2007).
Земский собор, созыв которого обсуждался в 1881–1882 годах, должен был, с точки зрения представителей «славянофильского лагеря», дать возможность обществу консолидироваться перед лицом власти, а власти – получить опору в лице общества. Вряд ли продуктивно обсуждать, чем могла бы на практике обернуться подобная инициатива властей, но в 1882–1883 годах выбор был сделан в пользу катковской программы. На практике, однако, она обернулась политикой агрессивной русификации, скорее стимулируя местные национализмы, чем достигая поставленных целей: русифицировать и формировать русскую нацию взял на себя государственный аппарат. Обществу отводилась одна функция – одобрять и поддерживать; даже те общественные группы, что придерживались консервативных и националистических позиций, оказывались неудобны – власть полагала, что она нуждается в исполнителях, а не в союзниках. История консервативной прессы весьма характерна в этом отношении: «Московские ведомости» после смерти Каткова быстро превратились в глухой официоз; «Русское дело», которое затеял издавать Шарапов после прекращения со смертью Аксакова «Руси», претерпело череду цензурных мытарств; «Современные известия», также удостоенные цензурного чистилища, закрылись со смертью Гилярова-Платонова; относительную свободу суждений (впрочем, весьма сомнительной ценности) консервативного толка мог себе позволить только «Гражданин», опирающийся на личные связи князя Мещерского с государем. «Русское обозрение», которое князь Цертелев пытался обратить в широкую площадку для высказывания правых идей, выродилось в очередной официоз, избегающий любых «рискованных идей», после вынужденного ухода редактора, которого сменил А. А. Александров, «правильными» взглядами искупавший денежную нечистоплотность.
Разочарование в контрреформах, обнаружившееся в 1890-е годы (Котов, 2010: 208–217), приводит к попыткам сформулировать программу действий, учитывающую новые социальные силы. Характерны интерес Л. А. Тихомирова к рабочим объединениям (Репников, 2011: гл. IX), рассуждения С. Ф. Шарапова о диктаторе как фигуре, посредствующей между императором и народом, в обход и «бюрократии», и общества (Тесля, 2012). В подобного рода программах справедливо отмечают сходство с итальянским фашизмом (Репников, 2011: 328–329). Объясняя замысел романа «Через полвека» (1902), Шарапов писал:
«Я хотел в фантастической и, следовательно, довольно безответственной форме дать читателю практический свод славянофильских мечтаний и идеалов, изобразить нашу политическую и общественную программу как бы осуществленной. Это служило для нее своего рода проверкой. Если программа верна, то в романе чепухи не получится, все крючки на петельки попадут. Если в программе есть дефекты принципиальные, они неминуемо обнаружатся…
Я очень хорошо знаю, что ничего подобного не будет.
Я хотел только показать, что бы могло бы быть, если бы славянофильские воззрения стали руководящими в обществе и в правящих сферах» (Шарапов, 2011 (1902): 308).
Однако нарисованная им фантазия оказывается на удивление узнаваемой, в итоге напоминая изображение советского общества в соцреалистическом романе или скорее итальянский фашизм: общество разделено на небольшие общины-fascio, основанные, правда, на приходском делении, политические права увязаны с вероисповеданием (и тем самым не входящие в приход оказываются лишены политических прав), община контролирует практически всю жизнедеятельность граждан, что особенно удобно в силу того, что все их средства зависят от приходской кассы. Империя раздвинулась до линии «бывший Данциг, ныне Гданьск» до Адриатики, подчинив себе всю Восточную и часть Центральной Европы. Во главе империи, оттеснив царя, стоит вождь, которого персонажи именуют не иначе как «гениальный Федот Пантелеев», так что «гениальный», надо понимать, является его неофициальным «титулом»: «простой, маленький дворянин, совершенно незнатный. Он сидел у себя в деревне, в Саратовской губернии, и появился в Петербурге довольно неожиданно <…> Волна выдвинула его на пост министра, и за несколько лет до последней великой европейской войны реформы в России были закончены» (Шарапов, 2011 (1902): 364). «.Его пожаловали государственным канцлером, и он в виде особой милости просил Государя никого не назначать на его место, а самое министерство упразднить, создав для полиции особое Управление государственной безопасности <…> Сейчас ему около 70 лет, но он совершенно здоров и бодр и работает неутомимо». Характерна и приблизительность возраста «гениального Федота Пантелеева» (ему «около 70»), и сама власть его вождистского типа, устраняющая институции; примечательным образом, вопреки собственному монархизму, Шарапов в «фантастическом политико-социальном романе» умудряется практически устранить фигуру монарха, которая тусклым фоном присутствует за «гениальным Федотом», навевая устойчивые ассоциации с Виктором Эммануилом III.
Подобная мечта о диктаторе, вынесенная в заголовок, наложена на текущие события 1907 года в «политической фантазии», где Иванов 16-й, никому не известный полковник, становится полноправным властителем государства – причем удивительным образом не отменяя существующей иерархии, сохраняя на своем месте председателя Комитета министров, которым так и остается П. А. Столыпин, – его власть, опять же, покоится на экстралегальных основаниях, выстраиваясь не столько «над», сколько «помимо» существующих властей и институций.
Как будто замыслив поиронизировать над «историей будущего», Шарапов описывает и унижающе-высмеивающие наказания политических противников (Шарапов, 2011 (1908): 535), отсылающие к пугающей карнавальности первых дней после «похода на Рим», проектирует лагеря для инакомыслящих с принудительными работами, отводя им место под Семипалатинском (Шарапов, 2011 (1907): 401–402) и сочетая с карательной психиатрией: «ореол героя заменяется простой смирительной рубашкой» (Шарапов, 2011 (1907): 401). Патронирующее государство подменяет «самовольные» рабочие союзы:
«Прочь все эти ваши союзы, профессиональные организации и прочее! Интересы рабочего должны и будут защищать закон и правительство, а не разные проходимцы, которые вкрадываются в ваше доверие и бунтуют вас. Есть заводчики своекорыстные, желающие эксплуатировать рабочего. Единственное от них ограждение рабочего – закон. Закон должен обеспечить и рабочие часы, и безопасность рабочего, и охрану его здоровья, и хорошую квартиру, и пищу, и страхование от несчастий, и школу детям, и пенсию на старость. Закон, и никто другой, должен обеспечить полную свободу как предпринимателю, так и рабочему. Я считаю стачки рабочих столь же недопустимыми, как и всякие синдикаты хозяев, союзы и локауты. И я твердой рукой водворю у вас законность, и первые же рабочие скажут за это спасибо» (Шарапов, 2011 (1907): 407–408; см. далее аналогичное обращение к фабрикантам).
Утопия «Диктатора» заканчивается фактически саморазоблачением – славянофилы, которых созывает Иванов 16-й, отрекаются от его программы, диктатор оказывается бессильным, неспособным найти даже нескольких сотрудников-подручных. Шарапов максимально приближается к программе будущей «консервативной революции», но между ним и ею остается пропасть – воображаемый диктатор, действуя помимо государственных институций, в то же время не имеет опоры в массовом движении; более того, разгоняя Русское собрание и Союз русского народа, фактически оказывается одиночкой, обреченной бессильной фигурой:
«Какой-то лазарет, какое-то кладбище, а не живая и бодрая страна! Но – прочь уныние! Вы заставляете меня действовать в одиночку, вы на меня одного валите всю работу, – хорошо, будем работать в одиночку!
– Министр внутренних дел, – доложил адъютант.
– Просите, просите.» (Шарапов, 2011 (1908): 567).
Утопией у Шарапова оказывается то, что осталось от славянофильства, от образа «прошлого», собственно, никогда не бывшего прошлым Шарапова, им вычитанным-придуманным – «отцов из сытых дворян с басовым смехом в хороших широчайших шубах и вязаных шарфах» (Шарапов, 2011 (1896): 599–600), бывших дворянской аркадией, мечтой, которую он в себе культивировал. Однако русские националистические движения вплоть до революции 1917 года оставались вне «политики масс» – немногочисленные опыты подобного рода, вроде предпринятого Союзом русского народа, так и остались неудачными и не вполне осознанными экспериментами: только опыт большевиков научит европейских правых (в том числе и русскую эмиграцию) роли масс и породит европейский фашизм.
Впрочем, итоги националистической политики правления Александра III, в основных чертах продолженные, насколько это было возможно в меняющихся условиях, и его наследником (до 1905 года), далеко не столь однозначны. Образ нации, созданный государственной пропагандой в 1880-1900-е годы, стал фактическим основанием сталинского «национал-большевизма»: начиная от иконографии и заканчивая узнаваемыми риторическими оборотами (Бранденбергер, 2009). В эту эпоху национальный проект впервые вышел за пределы «образованного общества» (где соревновались программы 1860-х годов), сформировалась националистическая пропаганда и первые контуры национального воспитания, обращенного к широким массам, которым была отведена решающая роль уже в XX веке.
Политическая философия славянофилов: движение «вправо»
«Славянофильство», как и целый ряд других, коллективных и персональных, направлений русской мысли XIX – начала XX века (от «почвенничества» до «евразийства»), остается актуальным уже постольку, поскольку регулярно происходят попытки обращения к нему в поисках идеологических установок и конкретных программ. Хотя, разумеется, подобные «наивные» обращения работают со смыслами текущего времени, однако, поскольку они апеллируют к целостным идейным программам, то независимо от желания оказываются вовлеченными в логику системы. То, что эти попытки прямого заимствования столь популярны, означает, по нашему мнению, также и то, что смысловые комплексы, ими образуемые, по крайней мере отчасти позволяют осмысливать текущую реальность и действовать в ней, а следовательно, изучение концепций прошлого, имеющих значительный круг сторонников в наши дни, позволяет также отчетливее увидеть и современные идейные и идеологические подходы. С другой стороны, каждая идеологическая, социально-философская и философско-политическая система является описанием того общества, в котором она создается – соответственно, анализ славянофильской политической философии позволяет глубже понять само устройство российского общества 1840-1880-х годов и тенденции его развития.
Отметим, что славянофильство достаточно сложно анализировать как целостную доктрину: в нем не было жесткого «идеологического» диктата, взгляды участников данного направления зачастую расходились; наблюдаются, разумеется, также существенные изменения не только акцентов концепции, но и ключевых положений во времени, ведь история славянофильского движения насчитывает около пятидесяти лет – с конца 1830-х до середины 1880-х годов, когда последние представители «классического» славянофильства сходят в могилу (см.: Тесля, 2012).
Наша задача – эксплицировать основания славянофильских взглядов, уйдя от описательности истории общественной мысли. При анализе славянофильских взглядов нам нужно различать два уровня (и, соответственно, две стратегии исследования): 1) ситуативный, когда положения, ими выдвигаемые, рассматриваются в контексте эпохи – в их значении «здесь и сейчас» и в рамках тех целей, которые ими преследовались (в связи с этим борьба с «бюрократией» имеет вполне конкретное политическое наполнение, равно как и разграничение «самодержавия» от «абсолютной монархии» преследует не столько цели политического анализа, сколько через риторическое размежевание стремится создать новые возможности для политического действия – риторическое размежевание в перспективе может стать основой реального разграничения; различие понятий – создать различение феноменов, даже если первоначальное разграничение было произвольным); 2) философский, изымающий из времени – и тогда суждение, имеющее вполне конкретный практический смысл в определенный момент времени, оказывается говорящим больше того, что собиралось сказать, – «время проговаривается» (в обоих смыслах «проговаривать(ся)»). Речь не идет, разумеется, о банальном противопоставлении философского и исторического смыслов – напротив, напряженность, расширяющая сферу доступных нам смыслов, возникает только при условии, что философское мыслится проявляющимся через историческое – оно непроизвольно сказывается в ситуативных текстах, равно как и философский текст оказывается несущим смыслы, большие или иные по отношению к тем, которые сознательно вкладывались в них самими авторами. Мы попытаемся использовать прием «челночного движения»: от ситуативного к философскому и обратно, когда конкретная мысль славянофилов раскрывается в пространство, задаваемое внешними по отношению к ней вопросами, и тем самым позволяет при возвращении к историческому по-новому осмыслить саму ситуацию.
Философские истоки славянофильства относятся в первую очередь к немецкой философии первой трети XIX века, характеризующейся принципиальным углублением политико-правовой мысли – когда на смену политическому теоретизированию XVIII века приходит углубление, аналогичное XVII веку, когда вопрос относится не к тому или иному политическому феномену, но к самой природе политического. Русское славянофильство выступает локальным вариантом общеевропейского романтизма, пустившегося в отыскание наций, в реконструкцию их прошлого в свете своего понимания настоящего и чаемого будущего. Необходимо отметить, что мысль романтиков далека от той формы национализма, оформившегося существенно позже, во второй половине XIX века, для которого данная нация замыкает горизонт мышления и снимает проблему универсального – ведь национализм, видящий в уникальности своей нации нечто конечное, фактически отождествляет нацию с идеальной империей – стоическим космополисом, не имеющим ничего за пределами себя, либо к скептицизму, вызванному реалиями множества наций, каждая из которых оказывается atom’том, фиксирующим наличие других через «упор», опыт границы.
Романтизм же пребывает в сложной диалектике Единого – Многого – Единичного, где конкретная нация обретает свой смысл только как форма Единого, его реализация – и ее смысл – и состоит в раскрытии Единого, универсального (см.: Магун, 2011). И если лейбницевская модель «гармонии» – воплощение целого через многообразие частей – отзвучит у Гердера, уникальной фигуры своего времени, некоего пред-романтика, то у Гегеля мы встречаем вновь линейный взгляд, отождествляющий единичное и Единое, где финальное единичное («германский мир») оказывается одновременно конечной адекватной реализацией Единого, где смысл целого дается через историческое развертывание и смысл единичного не гарантирован: «неисторические народы», обладая фактичностью существования, оказываются лишенными его смысла. Романтическое пространство мысли оказывается парадоксальным; так, «историческая школа права» находит специфическое содержание германского права в рецепции права римского.
В этой перспективе становится понятным ключевое содержание славянофильства в его собственных глазах – отыскать смысл национального (народного), дабы через это раскрылось универсальное, равно как и наоборот, поскольку национальное приобретает смысл только через универсальное. Дмитрий Хомяков, сын Алексея Степановича, уже в начале XX века, пытаясь осмыслить и подытожить идейное содержание славянофильства, отмечал, что славянофилы, приняв официально провозглашенную формулу «православие, самодержавие, народность», открыли в ней смысл, весьма далекий от того, что присутствовал в умах ее создателей. Для последних центральным пунктом формулы было «самодержавие», понимаемое как абсолютистская власть императора, а «православие» интерпретировалось как традиционная вера основного народа империи, сакральная легитимация монарха; «народность» же вряд ли имела какой-то конкретный смысл, дополнительный по отношению к двум первым. В циркуляре министра народного просвещения попечителям учебных округов от 27 мая 1847 года говорилось: «<…> Русская народность в чистоте своей должна выражать безусловную приверженность к православию и самодержавию. <…> все, что выходит из этих пределов, есть примесь чужих понятий, игра фантазии или личина, под которой злоумышленные стараются уловить неопытность и увлечь мечтателей» (цит. по: Янковский, 1981: 181). А. Л. Зорин отмечает, что в рамках уваровской «официальной народности» «русский человек – это тот, кто верит в свою церковь и своего государя. <…>.если русским может быть только член господствующей церкви, исповедующий “национальную религию”, то исключенными из народного тела оказываются старообрядцы и сектанты в низших слоях общества и обращенные католики, деисты и скептики – в высших. Точно так же, если народность необходимо предполагает приверженность самодержавию, любым конституционалистам и паче того республиканцам автоматически отказывается в праве быть русскими» (Зорин, 2004: 366).
Славянофилы, восприняв формулу «официальной народности», меняют значимость и содержательное наполнение ее элементов: на передний план выходят «народность» и «православие», тогда как «самодержавие» становится «русской формой правления», к тому же в дальнейшем все в большей мере подвергающейся разъедающей историзации, превращаясь не в трансысторическую форму, которая находит себе адекватное выражение в определенный исторический период, но лишь в конкретно-историческую форму, в определенный момент времени соответствующую «народным началам» (а следовательно, от которой не только можно отступить, «отпасть», но и которую можно преодолеть, сохраняя верность «народности»). На надысторический статус в зрелой славянофильской концепции претендуют лишь два начала из трех уваровских – «православие» и «народность», причем отношения между ними остаются непроясненными во все время существования славянофильства. Если в наиболее законченных и продуманных, своего рода «официальных» формулировках примат безусловно отдается «православию» как истинной вере (что дает возможность вывести славянофильское учение на универсальный уровень, а славянским народам, в первую очередь русскому, дает статус народов «исторических»), то в конкретных ситуациях нередко «православие» истолковывается (или, во всяком случае, имеются основания к подобному истолкованию) как «племенная вера», выражение «народного духа». Подчеркнем, что, хотя теоретический баланс между двумя началами удается поддерживать, практически акцент явственно смещается в пользу «народности» (что станет принципиальным пунктом размежевания со славянофильством Вл. Соловьева и К. Н. Леонтьева): славянофилов зачастую обвиняли в отождествлении «православия» и «русского православия», сведения «православия» до местной религиозной практики и местного религиозного понимания. Однако на взгляд самих славянофилов противоречия между этими тезисами не существовало, поскольку все универсальное может быть проявлено только в конкретных, ограниченных во времени и пространстве формах. «Православие» как таковое может быть нам дано только как православие русское, греческое, болгарское и т. д. – некоторые из этих форм могут оказаться адекватнее, другие – дальше от того, чтобы выразить содержание православия, но в любом случае мы не можем иметь возможности говорить о «православии» как таковом помимо его конкретно-исторических форм. Путь к общему должен быть путем осознания тождественности содержания во всем многообразии форм, где каждая из них своей конкретностью позволяет нам увидеть то, что оказывается невидимым в иной – и в этом смысле «православие» и «русское православие» практически действительно оказываются тождественными уже по той причине, что доступным для нас православие становится только через присущую нам его конкретную форму. Иное дело, что, на взгляд славянофилов, подобным нейтральным тезисом дело не ограничивается – «православие русское» оказывается не только «одной из» исторических форм православия, но и наиболее адекватной его вечному содержанию – оно ближе всего к существу учения. Конкретным раскрытием православия оказывается народность – как быт, который есть «вера, выражающаяся в жизни» (Хомяков, 2011: 210).
В первом приближении понимание государства у славянофилов можно уподобить августиновскому – его назначение исключительно негативно, оно призвано сохранять гражданский мир, удовлетворять потребности в форме, к которой неспособно общество. Государство осмысляется К. С. Аксаковым как искушение – и выбор в его пользу, осуществляемый западными народами, выступает параллелью грехопадения, неспособностью удержаться от соблазна «власти». Если традиционно в литературе подчеркивается своеобразный «правовой (юридический) нигилизм» славянофилов (см., например: Валицкий, 2012), то, по нашему мнению, данная оценка должна быть скорректирована: славянофилы, и в частности К. С. Аксаков, видят то, что по мнению либеральной философии права выступает ценностью права, однако, по их мнению, цена, которую приходится за это платить, слишком велика – господство внешней законности, юридизма, освобождает от моральной ответственности, внешнее удобство покупается ценой души. В рецензии на VII том «Истории.» С. М. Соловьева Аксаков в 1858 году пишет: «Человеку, как общественному лицу и как народу, предстоит путь внутренней правды, совести, свободы, или путь правды внешней, закона, неволи. Первый путь есть путь общественный, или, лучше, земский; второй путь есть путь государственный. Первый путь есть путь истины, путь вполне достойного человека. – Все имеет только цену, во сколько делается искренно и свободно. – Но удержаться на первом пути для человека трудно. Не всех может остановить одна совесть, и люди бессовестные вносят тревогу и смущение в общество человеческое; оно видит, что для тех, которым совести мало, мало суда внутреннего, нужен суд и наказание внешнее. Человек прибегает к другому пути. <…> Это путь не внутренней, а внешней правды, не совести, а закона. Начало, лежащее в основе такого пути, есть начало неволи, начало, убивающее жизнь и свободу. Прежде всего формула, какая бы то ни была, не может обнять жизни; потом, как бы ни была она истинна, – налагаясь извне, она уничтожает самую главную силу, силу внутреннего убеждения, свободного ее призвания. Далее, давая таким образом человеку возможность опираться на закон, она усыпляет склонный к нравственной лени дух человеческий, легко и без труда успокаивая его исполнением готовых определенных требований и избавляя от необходимости внутренней нравственной деятельности, нравственного бодрствования» (Аксаков, 1889: 241). Хотя данный фрагмент был исключен К. С. Аксаковым при окончательной обработке статьи, однако соображения, приведшие к данному авторскому решению, не относятся к существу высказанных положений – подтверждением тому служат еще более резкие формулировки, содержащиеся в статье 1859 года: «Государство ослабляет правду внутреннюю, и даже из людей честных делает бездушных, следовательно безнравственных, формалистов. Государство как бы говорит: я так устрою внешнюю правду моими институтами, учреждениями, что не нужно будет правды внутренней, что люди будут честны, не имея надобности быть такими на самом деле. Я так все устрою, что не будет надобности быть нравственным» (Аксаков, 1889: 286). Здесь риторика говорит сама за себя: государство предельно сближается с «сатанинским искушением», и «торжество внешней правды есть гибель правды внутренней, единой истинной, свободной правды» (Аксаков, 1889: 287). Неспособный устоять перед искушением властью народ перестает быть народом: «Когда народ – Государь, то где же народ?» (Аксаков, 1889: 288). Поэтому выбор русского народа, по К. С. Аксакову, не может оцениваться как выбор лучшей формы устройства с точки зрения «благоустроенного общежития», но как лучший для души – там, где не образуется «костыля души» в виде закона, где совесть должна сама принимать решение, не перекладывая свой труд на внешнюю норму.
Содержательный центр всей социальной реальности – народ. Собственно, для того чтобы он мог существовать и развивать заложенные в него потенции, и необходимо государство как внешняя, формальная скрепа, позволяющая избавиться народу от постоянной заботы о делах, которыми отныне ведает государство. Данная двухчленная схема была предложена К. С. Аксаковым, и он же первым фактически углубил ее, в статье «Опыт синонимов» (1857) разграничив понятия «публика» и «народ», понимая под «публикой» «фальшивый народ», «ряженых», некую промежуточную сферу, возникшую в результате петровского переворота – оторвавшихся от народа и существующих только за счет государства, только его ненародностью, и в то же время не являющихся собственно государством. Публичный взгляд отождествляет ее с народом – и государство взаимодействует именно с ней (не важно – в согласии или в противостоянии), принимая ее за народ (Аксаков, 2009: 237–238).
Ап. Григорьев, анализируя романы Загоскина, писал: «Для Загоскина <…> и того направления, которого он был дарови-тейшим представителем в литературе, в народе существовало только одно свойство – смирение. Да и притом само смирение не в славянофильском смысле полнейшей общинности и законности – а в смысле простой бараньей покорности всякому существующему факту» (Григорьев, 1876: 524). В этом противопоставлении «смирения» у славянофилов и у на первый взгляд близких к ним представителей «официального» лагеря важны выделенные Ап. Григорьевым смысловые оттенки, которые в дальнейшем, на протяжении 1860-1880-х годов, будут усиливаться, все более уводя славянофильское «смирение» от «покорности» в политическом плане (различие в этическом и религиозном плане изначально – для славянофилов «смирение» включено в другой тип религиозности, личной, – в противовес куда более традиционной, «неразмышляющей» религиозности, на которую ориентированы, например, М. П. Погодин или М. Н. Загоскин). «Смирение» понимается как сначала инстинктивное (применительно к поведению народа в древней русской истории), а затем и сознательное ограничение своей воли: образами подобного смирения в отношении власти станут персонажи одного из наиболее славянофильских произведений гр. А. К. Толстого «Князь Серебряный»: боярин Дружина Андреевич Морозов и князь Никита Романович Серебряный. «Смирение» предстает как отречение от самовластия согласно знаменитой формуле К. С. Аксакова: «сила власти – царю, сила мнения – народу». «Народ» (и «общество» – в концепции Ю. Ф. Самарина и И. С. Аксакова) добровольно отказывается от власти (что, собственно, и делает этот отказ моральным подвигом, в противном случае это было бы простой фиксацией бессилия), но при этом сохраняет за собой свободу мнения, и последнее становится силой, с которой власть обязана считаться, если желает оставаться властью «народной». Смирение в результате оказывается высшим напряжением воли, подвигом, то есть прямой противоположностью «покорности», поскольку это смирение не перед властью, а перед тем, ради чего и существует эта власть, – смирение, дающее силы быть свободным, «ибо страх божий избавляет от всякого страха», как говорил К. С. Аксаков в речи на обеде в честь севастопольского героя гр. Д. Е. Остен-Сакена в 1856 году. (Янковский, 1981: 203).
Это поведение и стремились практиковать сами славянофилы, реализуя «свободу слова и мысли», важнейшего права «земли» в славянофильской концепции, явочным порядком, как в случае с подачей адреса Московской думой в 1870 году. Тогда Ю. Ф. Самарин, в ответ на письмо кн. Д. А. Оболенского с описанием реакции Петербурга, писал: «Неужели ты думаешь, что мы все, и в особенности Черкасский, не ожидали такого впечатления, которое он произвел, и что никому из нас не пришло на ум все, что можно сказать о несвоевременности такого заявления»; но надо «воспитывать общество и вразумлять правительство, ставить вопрос и проводить его, обстреливать слух и облекать созревшее намерение в форму доклада. Наши дерзкие надежды озадачили и раздражили – пусть так, но сказанное слово оставляет след, а повторение того же слова подействует уже иначе и понемногу с ним свыкнутся» (цит. по: Дудзинская, 1994: 199). Аналогичным образом поступит в 1878 году Иван Аксаков, произнеся знаменитую речь против решений Берлинского конгресса, за которую он будет выслан из Москвы, а Славянское общество, одним из создателей которого он был в конце 1850-х и под чьим руководством оно действовало в наиболее напряженный период балканского конфликта в 1875–1877 годах, разогнано. Аксаков твердо осознавал вероятные последствия своего выступления (Тютчева, 2008: 540–541), что не помешало ему, тем не менее, сказать те слова, которые он почитал своим долгом произнести, а Кошелеву – опубликовать их в Германии. Однако славянофилы не ограничивались единичными выступлениями – в рамках той же позиции находятся и куда менее яркие, но требующие не единичных, а повседневных, регулярных усилий действия по заграничному бесцензурному книгоизданию Самарина и Кошелева (который неизменно отправлял их государю императору в сопровождении верноподданного письма, как он поступил и с изданием речи Аксакова), в публицистической деятельности Ивана Аксакова, за упорное отстаивание своего права говорить то, что думает, названного «страстотерпцем цензуры всех эпох и направлений» (Цимбаев, 2007: 440).
И тем не менее слабость схемы, предложенной К. С. Аксаковым, была очевидной – народ в ней оказывался безмолвствующим, «великим немым», который непонятен и, что куда болезненнее, и не может быть понят, поскольку голос принадлежит «публике»: остается только разгадывать, что же скрывается за молчанием народа – и это порождает восприятие всего исходящего равно от государства и от «публики» как «ложного», ненародного – и, следовательно, в сущности пустого. Последствия такого взгляда с очевидностью проявились в незаконченной статье К. С. Аксакова «О русской литературе», опубликованной посмертно в № 2 «Дня» 1861 года (газеты, издаваемой братом покойного, И. С. Аксаковым) и вызвавшей резкий отклик Ф. М. Достоевского, писавшего в статье «Последние литературные явления: газета “День”» из «Ряда статей о русской литературе», что тем самым взгляд славянофилов становится неотличимо похожим на созданный ими шаржированный образ «западника», ведь фактически отрицаемой, объявляемой пустой и ненужной, оказывается вся русская культура последних полутора столетий, вся история со времен Петра оказывается ошибкой – или если и неизбежным историческим этапом, то неспособным породить нечто действительно народное. Ф. М. Достоевский полемически остро называл эту позицию другой формой нигилизма, – где во имя необнаруживаемого, едва ли не принципиально не фиксируемого объекта отвергается все наличное: и в такой перспективе уже не особенно важно, отвергается ли существующее ради прошлого или будущего – куда более существенным выступает всеобщий характер отрицания, оставляющий в настоящем, наличном лишь пустоту, nihil. Эта полемика имела содержание, существенно выходящее за пределы спора о литературе, поскольку Достоевский точно и болезненно для славянофилов фиксировал коренное затруднение их позиции – отсутствие субъекта, который мог бы быть активным носителем и выразителем того, что для славянофилов выступало под именем «народности».
Отмеченное концептуальное затруднение фиксировалось и самими славянофилами – и в начале 1860-х годов И. С. Аксаков формулирует концепцию, призванную данное затруднение снять [существенную роль в формировании концепции «государство – общество – народ» сыграл Ю. Ф. Самарин, однако ключевые тексты принадлежат И. С. Аксакову, оставившему единственное целостное ее изложение]. Он предлагает трехчленную формулу: «государство – общество – народ», в которой «общество» понимается как «орган осмысления народного бытия», тот субъект, который обладает самосознанием и способен перевести «народность», органически данную в «народе», на язык сознания – в обществе народ осознает самого себя, обретает сознание и сознательность. Продуктивность этой концепции, помимо прочего, и в том, что она позволяет ответить на существенный упрек «почвенников», не говоря уже о представителях «западнической» ориентации: реформы Петра и последующая эпоха также получают свой положительный смысл – они теперь осмысляются как время формирования «общества», время подготовки общественного самосознания, – отсутствием которого и объясняется и гипертрофия государства в «петровский период», и неспособность допетровского государства разрешить проблемы, перед ним стоявшие: теперь последняя ситуация интерпретируется как следствие бессознательности народа, не сумевшего найти «органическое» решение и вынудившее государство, ради спасения себя и народа, пойти на реформы.
Тем самым меняется и перспектива: обществу надлежит конституироваться, стать тем, чем оно должно быть – «органом самосознания», обрести полноценную субъектность, дабы государство могло перестать быть абсолютным и одновременно разрушительным. Разрушительность современного государства вытекает, по мысли Аксакова, из того, что оно вынуждено быть «всем», брать на себя функции отсутствующего общества – но оно способно действовать только формально, схватывает только внешнюю сторону отношений и не способно к творчеству, согласному с требованиями народа. Вместо того чтобы чего-то требовать от государства, например расширения самоуправления, надлежит в первую очередь заботиться о развитии общественности – в противном случае государство неизбежно будет захватывать все новые и новые сферы социальной жизни, поскольку к тому его подталкивают существующие нужды, ведь для того, чтобы самоуправление стало реальным, недостаточно государственной воли, как не хватило ее, чтобы создать дворянское самоуправление. Наиболее ценное в социально-политической мысли славянофилов – обращение внимания на проблему «общества» и «общественного действия».
В то же время сохраняется и концептуальная роль «народа»: он позволяет совмещать апелляцию к прошлому, к традиции с одновременным активным участием в быстро меняющейся жизни, не обрекая на роль ретроградов – именно за счет своей «немоты». С. Ф. Шарапов, сотрудник «Руси», пытавшийся до конца своих дней выступать в роли продолжателя И. С. Аксакова, в письме Е. М. Феоктистову от 8 апреля 1888 года, отсылая первый номер «Русского дела», писал: «Мое направление не либеральное, т. е. не разрушительное, в этом нет сомнения, но и не консервативное, т. е. не охранительное. Как говаривал Иван Сергеевич, охранять нам нечего. Идеи самодержавия, народности, веры слишком прочны и в охранении не нуждаются, ибо хранит их русский народ – сила побольше газетной; наша нечастная современность, которую всеми силами охраняют “консерваторы”, – да куда же она годится? Эта современность ведет страну прямо к застою и разложению» (цит. по: Фетисенко, 2012: 416). Иными словами, именно постольку, поскольку «народ» можно принять за константу, он допускает критическое отношение как к современности, так и к прошлому – поскольку любое прошлое имеет оправдание лишь в совпадении с «духом народа», а не само по себе.
Политическое и правовое у славянофилов оказываются не тождественными государству – они первичны по отношению к нему, и именно в этой перспективе становится понятным странное безразличие славянофилов к вопросам государственного устройства, государственного управления – с их точки зрения это вопросы технические, вторичные по отношению к фундаментальным политическим решениям, следующие за ними, и потому решение первых естественным образом переопределит государственные реалии. У славянофилов мы можем видеть в обнаженной форме связь политического с теологическим – собственно, этой обнаженностью мысли и вызван интерес того же Шмитта, который, анализируя политическое, обращается к европейским консерваторам XIX века: то, что в либеральной доктрине оказывается скрытым в области «неразличаемого», у консерваторов оказывается в пространстве говорения – поскольку для них речь идет о проблематизации «самоочевидного» и, следовательно, их контрстратегия вскрывает фундаментальные предпосылки. Право здесь – не техника, не некий набор норм, но действие (подобно тому, как Малиновский будет интерпретировать миф как действие, а не рассказ): нормы сами по себе не «техничны», как подчеркивает И. С. Аксаков в обстановке споров вокруг судебной реформы, – они несут в себе ценности, определенный культурный выбор. Отсюда – из страха ошибки – возникает сопротивление всякому «формальному» праву: чем в большей мере право будет опираться на практику, вырастать из сложившегося понимания справедливого и несправедливого, тем действеннее оно будет. В конечном счете всякое «формальное право» для славянофилов несправедливо – поскольку оно неспособно учесть многообразия реальности, загоняя ее в ограниченное число норм, и тем самым нарушает классическую аристотелевскую формулировку справедливости, поступая с неравными равным образом, мысля как тождественные нетождественные ситуации. Тем самым, чтобы право было справедливым (а справедливость для славянофилов куда большая ценность, чем юридическая правильность), необходимо, чтобы оно имело внеправовой регулятор, каковым выступает царь.
Этот частный случай позволяет глубже понять славянофильскую концепцию самодержавия. Если государство по определению формальная сила, то, чтобы она действовала осмысленно, необходимо, чтобы его глава был трансцендентен по отношению к нему – самодержец благотворен тем, что не является правительством, он не «часть государства», а его «глава», то есть личность – если к государству невозможно обратиться с этическим требованием, если закон невозможно просить или умалять, то личность способна дать личный отклик. Ю. Ф. Самарин в открытом письме к Александру II заявлял: «Если бы в сознании всех подданных Империи, просвещенных и темных, образ Верховной Власти не отличался более или менее отчетливо от представления их о правительстве, самодержавная форма правления была бы немыслима; ибо никогда никакое правительство не вознеслось бы на ту высоту, на которой стоит в наших понятиях Верховная Власть, и напротив, эта власть, ниспав на степень правительства, утратила бы немедленно благотворное обаяние своей нравственной силы» (Самарин, 1890: XIX).
В этом понимании самодержавия явственно проявляется дворянский характер славянофильства – типичная враждебность к бюрократии, к выстраиваемому Николаем I «полицейскому (регулярному) государству», где бюрократия заменяет дворянство в его роли исполнителя государственной воли, но реакция эта, фиксируя возникающее и быстро набирающее силу «бюрократическое государство», одновременно ищет ему альтернативу на пути «прямого правления», что проявится в странном и любопытном в концептуальном плане правлении Александра III, когда «реакция» использует формы, предвосхищающие будущие вождистские государства, а попытка мобилизации народных масс в последующее правление, равно как и стремление найти альтернативные формы источников информации и управления, через неформальные контакты и различные монархические партии и организации, окажется предшественником теории и практики «консервативных революций» XX века. Если первоначально славянофилы (1840– 1850-х годах) могут быть однозначно отнесены к либеральным направлениям мысли (в чем сходится большинство исследователей, см.: Цимбаев, 1986; Дудзинская, 1994), то позднейшее развитие славянофильства демонстрирует нарастающее напряжение между либеральными основаниями и возрастающим консервативным тяготением. Данное напряжение проявляется и персонально: если А. И. Кошелев сдвигается с 1860-х в сторону «земского либерализма» и остается на этих позициях вплоть до кончины в 1883 году, то для И. С. Аксакова характерна куда более сложная динамика, попытка примирить изначальную позицию с новым контекстом, обретшим достаточно жесткие очертания к 1870-м.
Суть «консервативного» сдвига позднего славянофильства (в связи с чем в ретроспективе само славянофильство зачастую начинает оцениваться целиком как направление консервативного плана) связана с трансформацией самого (европейского) консерватизма, претерпевающего в 1860-е годы радикальные изменения. До этого момента решающим противником консерватизма было национальное движение – национализм, опирающийся на демократическую в своей основе идеологию национального тела и обретения им политической субъектности, противостоял сложившимся политическим образованиям и властям (и в этом смысле консервативный лагерь в Российской империи, например, однозначно воспринимал славянофильство как противника, причем жесткость репрессий в отношении славянофилов была куда более однозначной и быстрой, чем аналогичные действия в отношении западников, в особенности если учесть малочисленность тогдашнего славянофильства). Позднее же славянофильство действует в ситуации, когда консервативная мысль и национализм все больше тяготеют к образованию идейных комплексов – и поскольку национализм выступает смысловым концептом, определяющим славянофильскую концепцию, то это вызывает смысловые подвижки славянофильства, попытки соединения названных идейных комплексов в новое целое.
* * *
Приведённый ознакомительный фрагмент книги Первый русский национализм… и другие (Андрей Тесля, 2014) предоставлен нашим книжным партнёром -