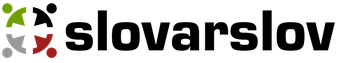Скука вдвоем. Сбой в работе
Скука - это состояние по своим внешним проявлениям схоже с состоянием монотонии, но значительно более сложной природы.
Монотония - это в основе своей биологизированное состояние, оно результат временного воздействия внешних однообразных условий. Внутренняя же психическая деятельность при этом может быть достаточно интенсивной, жизненные установки - весьма активными, да и сама монотонная деятельность может быть наполнена большим смыслом.
Скука же, наоборот, появляется там, где теряется смысл в работе или еще шире, - в жизни.
Австрийский психиатр и психолог В. Франкл состояние, характеризующееся дефицитом смысла в определенном периоде жизнедеятельности человека, назвал экзистенциальным вакуумом (экзистенция - смысл). Он считал, что это явление в наши дни стало широко распространяться по целому ряду причин.
Причины скуки
Еще в начале своей истории человек потерял некоторые из основных своих инстинктов, в первую очередь те из них, что определяли поведение, регламентировали жизнедеятельность. Но этим дело не ограничилось. В последующем развитии человек претерпел вторую потерю: одна за другой рушились и исчезали традиции, которые представляли основу для формирования жизненных установок и определяли его поведение в повседневной жизни. Особенно это стало заметно в эпоху индустриализации, проявившись в полную силу в период научно-технической революции.
В настоящее время значительная часть людей с трудом себе представляет истоки многих обычаев и традиций. Попробуйте ответить, например, на вопрос о корнях традиции празднования дня рождения. В результате постепенно складывается такое положение, когда, считает Франкл, никакой инстинкт не подсказывает человеку, что он «вынужден» делать, никакая традиция не говорит ему, что он должен делать, вскоре он уже просто не знает, что он хочет делать.
Постепенно утрачиваются осмысленность жизни, ее широкий социально-исторический контекст. Жизненный смысл, а вслед за ним и тонус становятся тусклыми, недопроявленными, плоскими. Без ощущения связи с прошлым теряется ощущение глубины и наполненности существования, пропадают, размываются опоры и цели жизни. Не считать же достижение личного материального, вещного достатка главной целью и смыслом деятельности человека.
Проблема скуки по мере роста материального благосостояния становилась все более актуальной. Особенно это характерно для развитых стран Запада. Обостряло проблему все заметнее сокращающееся трудовое время, интенсификация и узкая специализация производства. Большинство людей в этих условиях не знает, что же делать со своим досугом.
Тягостное состояние безделья и бессмысленного отдыха оказалось настолько действенным и распространенным, что зарубежные психиатры даже выделили новую форму провоцируемого им заболевания, получившего название «воскресного невроза», которое характеризуется резким ухудшением настроения и самочувствии человека в свободные от работы дни.
Ощущение своей одномерности, загнанности в узкие рамки прагматически организованного общества потребления чревато для человека серьезными вывихами социального поведения и жизнедеятельности, сдвигами в его установках, разладом в психической организации.
В первую очередь страдает от этих явлений молодежь, расходующая свое жизненное время на поиски эрзаца, заменителей подлинных человеческих ценностей и увлечений. Именно с бессмысленным досугом связан рост алкоголизма, юношеской преступности, сексуальных извращений во всем мире. Заполнение «экзистенциального вакуума» принимает все более жестокие формы, когда жертвами насилий, убийств становятся случайные люди.
Проблема скуки очень важна и для пожилых людей так как им еще труднее бывает наполнить смыслом тот избыток времени, который образуется у многих после выхода на пенсию. Теряются живые связи с прежним трудовым коллективом, задававшим во многом темп и цели, смыслообразующую основу жизнедеятельности. Заполнить образовавшийся психологический вакуум, поменять жизненные ориентиры в пенсионном возрасте сложно было всегда, тем более это трудно сделать в наше излишне рационализированное время.
На скуку как на довольно распространенное состояние современного человека давно обратили внимание философы и писатели, осмысливающие человеческое существование. Так, например, М. Хайдеггер упоминает о скуке, заставляющей банального человека вести поиск, как бы ему «обезличиться и забыться»
А. Камю характеризует скуку как довлеющую над человеком повседневную рутину. «Подъем, трамвай, четыре часа в конторе или на заводе, обед, трамвай, четыре часа работы, ужин, сон, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, все в том же ритме - вот путь, по которому легко идти день за днем. Но однажды встает вопрос «зачем?».
Все начинается с этой окрашенной недоумением скуки. Скука является результатом машинальной жизни…» Однако скука может оказывать и полезное действие - «приводить в движение сознание» для рефлексивных процессов, посредством которых производится оценка сложившихся обстоятельств, дается начальный толчок для поиска путей выхода из этого тягостного положения.
Впервые я встретился с Одиночеством еще в детстве. В недалекий девяностых я оставался дома один, пока мать уходила на работу или в магазин. Я играл в игрушки, смотрел мультфильмы и плакал, когда матери не было слишком долго. Но скучно мне не было. Только если грустно.
Однако с настоящим Одиночеством я встретился несколько лет назад, в тот момент, когда впервые столкнулся со смертью. Тогда умерла моя тетя, чья потеря, впрочем, меня не касалась. Это было семейное горе, но не мое. И дело даже не в том, что тетю я не любил. Нет. Ведь по сути я не осознавал самой потери. Не чувствовал ее. Просто в мире стало на одного человека меньше, только и всего.
Даже на похоронах я не проронил ни слезинки. Все вокруг плакали, а я лишь молча стоял в углу, стараясь не привлекать внимания. Наверное, я вел бы себя также, умри кто-либо другой из членов моей семьи. Пожалуй, это действительно грустно, когда оборваются последние нити, связывающие некогда родственные души. Если они вообще когда-либо были таковыми. В любом случае для меня больше не было семьи. По-крайней мере в том понятии, в котором обычно подразумевают люди.
Но признаюсь: засыпать и просыпаться под истерический рев матери было неприятно. Я бы даже сказал - болезненно. Однако именно благодаря этому фактору я всегда спешил удрать из дома, едва за окнами начинался рассвет.
Все свое время я пытался проводить с друзьями. Точнее с людьми, которых я ими считал. Но в конце концов они отвернулись от меня по своим причинам, оставляя меня одного.
Тогда-то и начался этап Абсолютного Одиночества. АО. Или Настоящего Одиночества. НО. Называйте, как хотите. Именно тогда я впервые понял, что у меня нет никого, кто действительно сумел бы заполнить пустоту внутри меня. А она, в свое время, разросталась и разросталась, охватывая и сдавливая своими щупальцами внутренние органы, пожирая душу изнутри, как если бы в груди разросталась всепоглощающая черная дыра.
Едва мне стоило открыть глаза, как тут же хотелось снова их закрыть. Каждое утро ничем не отличалось от предыдущего, а вся будничная неделя превращалась в череду уродливых дней-близнецов, похожих друг на друга, как две капли воды.
Завтрак, маршрутка, метро, университет, обед, метро, маршрутка, ужин, сон. Завтрак, маршрутка, метро, университет, обед, метро, маршрутка, ужин, сон. Завтрак, Маршрутка, метро, университет, обед, метро, маршрутка, ужин, сон.
Как сказал Ницше: "Перед ликом скуки даже боги слагают свои знамена". А я не бог, поэтому Скуке я отдал всего себя без остатка. Все свободное время я читал, чтобы забыться. Затем пил. Затем курил сигареты и травку. Достать ее было легче, чем сходить за хлебом - главное знать где.
Так я и жил, пока не случился нервный срыв, окончательно подкосивший мою веру в себя и собственные силы.
То есть вы хотите сказать, что виной всему - голос в вашей голове?
Да, если вам угодно. Объяснить иначе я не могу.
Сдайся.
Врач напротив меня вопросительно поднял бровь, однако промолчал.
И как, сдались?
В его вопросе не было насмешки. Спроси это кто-нибудь другой, возможно она и была бы, но мужчина передо мной был абсолютно серьезен.
Нет, как видите. Ведь сдаться - значит закончить со всем. Раз и навсегда.
Понимаю. И как именно выражается этот голос? Он звучит откуда-то извне, снаружи, или же он у вас в голове?
Да, внутри головы. Словно звук не попадает в уши, а выходит из них.
Пожилой мужчина напротив положил ногу на ногу и, поправив очки, произнес:
Не будь за моей спиной такого багажа знаний и опыта, я бы определил у вас шизофрению и отправил лечиться в психиатрическую лечебницу, где вас бы гасили лошадиными дозами снотворных И успокоительных препаратов. Но так как этот багаж все-таки есть, - врач сделал небольшую паузу и почти заговорчески приблизился ко мне, - я уверен, что это последствия детской травмы, плохих отношений с матерью и сильного, глубокого запоя, в котором вы находились в период появления этого самого голоса.
Так значит, я здоров? - Обреченно выдохнул я.
Нет, дорогой мой, - ответил тот, после очередной паузы, - ни в коем случае.
Я закурил, а едкий дым сразу попал в левый глаз, после чего того сильно защипало, пока не появились слезы, однако курить я не перестал. "Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус" - кажется так говорилось в малоизвестной поговорке?
Надпись на пачке сигарет обещала мне страдания. Этакая новая практика в борьбе с курением: лепить куда не попадя изображения с изуродованными конечностями или органами, дополняя их не менее угрожающими фразами типа "страдание", "эмфизема", "импотенция". Пожалуй, только последнее могло хоть как-то воздействовать на мужское сознание. Для женщин же было припасено изображение младенца в дыму с многозначительной надписью "опасность".
Что ж, это их дело, равно как и их право. Но и у меня есть права. Во мне не вызывает умиления беспомощный комок плоти, вопящий в своей коляске, пока его сумасшедшая мамаша тщетно пытается его успокоить.
И не дай бог тебе громко засмеяться или закурить рядом с ее чадом... Тебя убьют голыми руками, даже не поморщась. Хотя моей вины здесь нет абсолютно. Я живу так, как хочу, и не желаю, чтобы мои права ущемлялись из-за существа, неспособного ни на что, кроме пары килограммов дерьма в подгузниках.
В последнее время я просыпаюсь раньше обычного из-за стройки под окнами. Строят детский сад. Но я продолжаю ненавидеть именно детей. Почему, спросите вы, ведь строители - взрослые люди? Да, взрослее некуда, вот только им эта стройка ни к чему. Все это делается для детей и только.
В моем же детстве меня все устраивает, за исключением отсутствия любви и понимания. Но подобные мелочи вряд ли важнее детского сада или школы, правда?
Девушка повернулась ко мне.
Почему вы плачете? Я могу как-то помочь?
Ответа я не дождался. На улице лил сильный дождь, неожиданно разразившийся в середине некогда солнечного дня, но девушка словно не обращала на непогоду внимания.
Послушайте, на улице холодно, - продолжал я, - вам бы лучше это... Домой.
Девушка заплакала еще сильнее, и тут я понял, что идти ей, видимо, некуда. Я быстрым движением снял с себя кофту и накинул ей на плечи.
Пойдемте ко мне. У меня чай горячий, варенье. Даже булочки найдутся.
Девушка недоверчиво посмотрела на меня заплаканными глазами.
Ничего не подумайте, просто вы стоите здесь одна под дождем и плачете. И... - Я помедлил, подбирая слова, - и если ваш дом далеко, то вы можете зайти ко мне и согреться, пока я закажу вам такси.
Уловка сработала, и девушка, едва заметно кивнув, покорно пошла за мной, однако плакать не перестала. Мы быстро дошли до моего подъезда и поднялись на этаж.
Живу я не один, но думаю, что вы ей понравитесь.
Едва ключ зашевелился в замке, из квартиры послышался радостный лай.
Ой, а я собак боюсь, - тихо произнесла девушка.
"Вот и первые слова.."
Не бойтесь, она добрая. Очень, - успокоил я ее, - и маленькая.
Как только дверь открылась, мне навстречу выбежала такса. Смешно перебирая лапками, она с разбега прыгнула мне на руки.
Привет, моя хорошая, привет, - сказал я собаке, - У нас гости сегодня, так что не шали.
Девушка едва заметно улыбнулась.
Да вы не стойте так, проходите.
И она прошла в прихожую, где я помог ей снять мокрую одежду.
Кухня прямо и направо. Сейчас я принесу вам что-нибудь теплое, пока чайник не вскипел.
Я прошел в комнату и, порывшись в шкафу, выудил оттуда старый вязаный свитер и шерстяные носки.
Пройдя на кухню я увидел, как девушка испуганно смотрит на собаку, сидевшую рядом с ее стулом. Собака, видимо, была очень удивлена, что в гостях у меня была девушка.
Да вы не бойтесь, - сказал я ей, - она не кусается. Вот протяните ей руку.
Зачем? - Спросила та.
Как зачем? - Не понял я, - чтобы познакомиться. Она понюхает вам руку и начнет вам доверять.
А так со всеми собаками?
"Она что, с другой планеты?"
Ну да, со всеми, - ответил я.
Спустя уже десять минут собака сидела у девушки на руках, а я разливал чай по большим кружкам, выигранным в акции местного продуктового магазина.
Разговор завязался сам собой. Она рассказывала о себе, я слушал. Видимо, Ей нужно было выговориться, а я не имел ничего против.
И тогда я решила, что хочу пожить для себя. После расставания с... я с головой ушла в учебу, благодаря чему перевелась на бюджет и даже поехала на практику в Китай.
О, так ты знаешь китайский? - Спросил я, плавно переходя на ты.
Ну-у, я только учусь...
Ой, да ладно, не скромничай.
Девушка засмеялась. И тут я с ужасом осознал, насколько ее смех, похож на смех другой девушки. Той, чье имя я не произносил также, как герои Гарри Поттера не произносили имя Волан-де-морта. Той, чей голос я помнил всю свою жизнь, и чье лицо снилось мне одинокими ночами.
Что-то случилось? - Спросила она.
Нет, с чего ты взяла?
Просто ты вдруг в лице поменялся, словно я что-то не так сказала или сделала...
Нет, все нормально, - пробубнил я, - просто вспомнилось кое-что...
Она уехала в полночь, оставив после себя лишь кружку с недопитым чаем. Я снова остался один. И напился. Безбожно напился. Не помню, когда так напивался в последний раз.Слишком многое всплыло из памяти после встречи с этой девушкой.
"...Ее локоть едва касался моего. Мы сидели на контрольной по немецкому языку. Она что-то задумчиво писала, а я был весь в одной точке. В точке соприкосновения наших рук..."
"...-Дай на коленки сяду.
Садись.
Только не обнимай, а то я тебя знаю..."
"...Она заснула в автобусе, лежа у меня на руках. Руки затекли безумно и я их уже не чувствовал, однако я не шелохнулся, дабы не потревожить ее сон..."
"-Ты мне нравишься, но как друг, прости.
Ладно, я все понимаю...
Правда прости.
Ну что ж, тогда друзья?.."
"...-Да не верю я в твою эту любовь!
Ну так и пошла ты тогда!"
Я заполнил ванную и полностью погрузился в горячую воду. Надо смыть с себя все это. И хорошенько проспаться.
Так значит вы снова принялись за алкоголь?
Все тот же врач сидел напротив меня. Создавалось впечатление, словно с последнего разговора он так и не выходил из кабинета и даже не вставал со стула.
Я и не заканчивал с ним. Кроме него у меня больше нет возможности как-либо забыться.
Но вы же понимаете, что алкоголь, а уж тем более в таких количествах, несовместим с теми лекарственными препаратами, что я вам прописал?
Понимаю. Но что мне остается?
Повисло долгое давящее молчание.
Признаться, я и сам не знаю, - вдруг произнес доктор, нарушая тишину.
Я улыбнулся.
Но поверьте, дело тут не в отсутствии должного уровня профессионализма с моей стороны, - как бы оправдывался тот, - просто случай действительно тяжелый. Ведь ваша проблема в образе, выгнать который не получается, сколько бы мы не пытались.
Доктор, - тихо произнес я, - это не образ... Это любовь.
Знаешь, а я понял, почему у меня не получалось дружить с ней, а у нее со мной получалось.
И почему же?
Мы сидели за барной стойкой в местном баре на углу улицы. Вокруг сновали люди, а из колонок мурлыкал ненавязчивый блюз. Мы заказали по "Лонг айленду" и неспешно разговаривали, потягивая коктейли.
Я думал об этом очень долго, но лишь недавно осознал, - начал я, - смотри: у женщин с точки зрения биологии и психологии есть смысл в жизни - продолжение рода, рождение потомства. А у мужчины подобного смысла нет. Точнее он есть, но не так ярко выражен. Вот и получается, что мужчина имеет внутри себя экзистенциальную пустоту, которую он заполняет разными вещами.
Какими, например?
Абсолютно любыми. Работа, творчество, хобби и, наконец, дружба, - отвечал я, - не зря ведь говорят, что женской дружбы не существует. А если таковая и встречается в природе, то лишь в виде исключения. А как сказал Цицерон: исключения подтверждают правила.
Так и к чему ты ведешь? - Недоумевал мой друг.
А к тому, что женщинам не нужно дружить. Им нужно размножаться. И для этого они находят себе мужчину, а остальных воспринимают как невозможные варианты, поэтому просто общаются с ними, получая от этого удовольствие.
Музыка в баре стала немного энергичнее. На смену блюзу пришел ритмичный джаз. Несколько парочек, будучи пьяными, вышли из-за столиков танцевать.
То есть ты хочешь сказать, что ваша дружба не сложилась из-за причин, заложенных в ДНК? - Попытался подытожить друг.
Да, что-то типа того.
Знаешь, я бы возразил тебе что-нибудь, если бы знал что. Однако то, что ты говоришь, звучит достаточно логично, пускай и слишком бездушно.
Бездушно? - Удивился я.
Ну да. Это убивает всю духовную составляющую в человеческих взаимоотношениях. Осталось только добавить, что любовь - это биохимия, и все, fine della commedia.
А я бы так и сказал, но там есть слишком большой кусок эзотерики, опустить который просто невозможно. Там уже задействована физика, а это, друг мой, совсем другая история.
Знаешь, к черту эти серьезные разговоры, - произнес друг, - давай просто напьемся.
Дома меня встретила собака и кучка ее экскрементов.
Прости, я снова забыл с тобой погулять.
Собака, словно не обращая внимания на мои слова, недовольно урчала и тыкалась мне в ногу.
Я слишком пьян, чтобы идти гулять, - оправдывался я, - давай завтра.
Собака в ответ жалобно заскулила.
На улице стояла приятная прохлада, так что алкогольный туман в голове немного рассеивался. Иногда приятно подобным вечером пройтись с кем - нибудь. Хотя даже одному делать это чертовски приятно. Но я был не один, у меня была собака.
Хотя это звучит как очень печальное оправдание собственному одиночеству. Интересно, найду ли я себе вторую половинку? Или так и проведу всю жизнь в поисках чего-то внутри себя самого?
И вдруг мне стало так плохо и одиноко, что я поспешил вернуться домой и принять ванну. Это всегда помогало. Собака довольно растянулась в прихожей, а я залез в ванну и принял горячий душ.
За окном начинало светать. Начинался новый день, еще бесполезнее предыдущего. С добрым утром.
Спасибо, что приехали.
Да нечего меня благодарить. Вы, как-никак, мой пациент.
И все же я благодарен. Вы не обязаны.
Опустим это, - сказал доктор, - вы мне лучше скажите, зачем вы это сделали?
В VIP палате было светло, как днем. Небольшая хорошо освещенная комнатка с телевизором на стене и единственной кроватью в углу, рядом с которой располагались небольшой столик и маленькая тумбочка.
Зачем? - Спросил я как бы невзначай, - Да потому что устал. Устал от всего.
Ну а что вы имеете теперь? Порезанные запястья и плохо функционирующую левую кисть, - подытожил врач, отвечая на собственный вопрос.
"Где он?" - послышался из коридора женский голос.
Мгновение спустя дверь резко открылась и в проходе показалась моя сестра.
Я тебя сейчас сама убью, раз у тебя не получилось! - Начала та, - Как ты вообще мог решиться на такое? Ты что, совсем дурак?
Я не отвечал. Лишь улыбался и виновато перебирал край одеяла правой рукой.
Думаю, мне лучше уйти, - произнес доктор, собираясь вставать.
Нет уж вы останетесь! - Прикрикнула сестра, - Хочу в ваши глаза бесстыжие посмотреть!
Не надо так... - начал было я.
Ты вообще молчи. А вы, - Сказала сестра, переводя взгляд на растерявшегося врача и указывая на него пальцем, - вы мне объясните, почему ваш пациент, который наблюдается у вас вот уже полгода, вместо выздоровления спивается и режет себе вены?
Напряжение в воздухе было, хоть топор вешай.
Понимаете, - отвечал доктор, - психоанализ - это очень долгое и порой безрезультатное занятие. Я делаю все, что в моих силах. Поверьте, большего сделать просто невозможно!
Ну вы же врач, это ваша работа! Вы обязаны сделать так, чтобы моему брату стало лучше!
Доктор молчал, виновато потупив взгляд.
Ладно, простите, - успокоилась сестра, - я все понимаю. Просто испугалась сильно, перенервничала. Извините.
Да ничего страшного, - спокойно произнес доктор, - я тоже все понимаю, - с этими словами он встал, прошел к вешалке и снял свое пальто, - а сейчас мне лучше оставить вас наедине. Думаю, вам есть, о чем поговорить.
Спасибо вам, - сказал я виноватым тоном, - всего доброго.
До свидания.
Пожилой врач не спеша надел пальто и вышел из палаты, слегка улыбнувшись перед тем, как исчезнуть за дверью.
Ну а теперь мне объясни - зачем ты это сделал?
Ты все равно не поймешь...
А ты попробуй объяснить так, чтобы я поняла.
Просто мне одиноко. Очень одиноко, - начал я, - и это одиночество не покидает меня, что бы я не делал, с кем бы не общался. И мысли о ней не дают покоя. От них никуда не деться.
Вета... - только и сказала сестра.
Да, Вета. Уже десять лет.
И чем она так тебя зацепила... Не понимаю.
Да и не надо понимать.
Сказав это, я попытался взять сестру за руку, но левое предплечье отказывалось сжимать пальцы, поэтому жест получился до жути нелепым.
Ладно, - выдохнула она, - отдыхай. Я заеду к тебе послезавтра. Прости, раньше не могу - работа, сам понимаешь. Но с меня тортик.
Я улыбнулся. До послезавтра мне не дожить.
Знаете, есть такой математик: Лобачевский. Так вот согласно его геометрической теории параллельные прямые - пересекаются. Где-нибудь, когда-нибудь, как-нибудь, но все же пересекаются.
Я и Вета - прямые, ставшие исключением даже в геометрии Лобачевского. Мы не пересекались нигде: ни на улице, ни в метро, ни в маршрутках и автобусах... После ее переезда мы не виделись вот уже два года. И, видимо, не увидимся уже никогда.
Я стою на крыше больницы и вдыхаю осенний воздух полной грудью. Передо мной открывается великолепный вид на вечерний город. Снизу девять этажей и мокрый асфальт. Скоро я буду там быстрее лифта.
В голове куча мыслей, но не за одну нельзя зацепиться дольше, чем на пару секунд. И только одно остается неизменным - любовь, живущая во мне. Она неизменна вот уже десять лет. Все вокруг менялось, но только не она. Цены на маршрутки до метро росли, в самом метро строилось очередное кольцо, люди становились все более хмурыми в зависимости от времени года, менялась мода, а моя любовь смело вышагивала в непостижимую вечность человеческих чувств.
И вот я здесь, на крыше, стою и жду, когда сердце перестанет биться так сильно. Мне не страшно. Мне грустно. Грустно и одиноко. И нет в этом бесконечном одиночестве ни единого светлого пятна. Это исключительная темнота, абсолютный и беспросветный мрак. И я в нем тону с головой. Там нет звуков, нет цветов, нет запахов. Нет ничего. Вакуум. Пустота. Чистое отсутствие чего бы то ни было.
О таком одиночестве и из-за него же пишутся стихи и проза, сочиняются песни и музыка, рисуются картины... От него не скрыться, оно всегда в тебе, всегда рядом. Оно сидит на плече и шепчет тебе на ухо то, что ты слышать не хочешь. Оно давит на плечи непосильным грузом, сбросить который невозможно. Все попытки - Танталовы усилия, не более.
Я собираюсь с духом и делаю шаг вперед. Всего лишь один шаг. Я не вернусь, Вета. Я уже не вернусь. Осень - лучшее время для ухода. Я закрываю глаза и погружаюсь в свободу полета. Это конец.
Хотя было уже не рано, но они успели заехать куда-то по делам, потом Штольц захватил с собой обедать одного золотопромышленника, потом поехали к этому последнему на дачу пить чай, застали большое общество, и Обломов из совершенного уединения вдруг очутился в толпе людей. Воротились они домой к поздней ночи. На другой, на третий день опять, и целая неделя промелькнула незаметно. Обломов протестовал, жаловался, спорил, но был увлекаем и сопутствовал другу своему всюду. Однажды, возвратясь откуда-то поздно, он особенно восстал против этой суеты. Целые дни, ворчал Обломов, надевая халат, не снимаешь сапог: ноги так и зудят! Не нравится мне эта ваша петербургская жизнь! продолжал он, ложась на диван. Какая же тебе нравится? спросил Штольц. Не такая, как здесь. Что ж здесь именно так не понравилось? Все, вечная беготня взапуски, вечная игра дрянных страстишек, особенно жадности, перебиванья друг у друга дороги, сплетни, пересуды, щелчки друг другу, это оглядывание с ног до головы; послушаешь, о чем говорят, так голова закружился, одуреешь. Кажется, люди на взгляд такие умные, с таким достоинством на лице, только и слышишь: «Этому дали то, тот получил аренду». «Помилуйте, за что?» кричит кто-нибудь. «Этот проигрался вчера в клубе; тот берет триста тысяч!» Скука, скука, скука!.. Где же тут человек? Где его целость? Куда он скрылся, как разменялся на всякую мелочь? Что-нибудь да должно же занимать свет и общество, сказал Штольц, у всякого свои интересы. На то жизнь... Свет, общество! Ты, верно, нарочно, Андрей, посылаешь меня в этот свет и общество, чтоб отбить больше охоту быть там. Жизнь: хороша жизнь! Чего там искать? интересов ума, сердца? Ты посмотри, где центр, около которого вращается все это: нет его, нет ничего глубокого, задевающего за живое. Все это мертвецы, спящие люди, хуже меня, эти члены света и общества! Что водит их в жизни? Вот они не лежат, а снуют каждый день, как мухи, взад и вперед, а что толку? Войдешь в залу и не налюбуешься, как симметрически рассажены гости, как смирно и глубокомысленно сидят за картами. Нечего сказать, славная задача жизни! Отличный пример для ищущего движения ума! Разве это не мертвецы? Разве не спят они всю жизнь сидя? Чем я виноватее их, лежа у себя дома и не заражая головы тройками и валетами? Это все старое, об этом тысячу раз говорили, заметил Штольц. Нет ли чего поновее? А наша лучшая молодежь, что она делает? Разве не спит, ходя, разъезжая по Невскому, танцуя? Ежедневная пустая перетасовка дней! А посмотри, с какою гордостью и неведомым достоинством, отталкивающим взглядом смотрят, кто не так одет, как они, не носят их имени и звания. И воображают несчастные, что еще они выше толпы: «Мы-де служим, где, кроме нас, никто не служит; мы в первом ряду кресел, мы на бале у князя N, куда только нас пускают»... А сойдутся между собой, перепьются и подерутся, точно дикие! Разве это живые, не спящие люди? Да не одна молодежь: посмотри на взрослых. Собираются, кормят друг друга, ни радушия.. ни доброты, ни взаимного влечения! Собираются на обед, на вечер, как в должность, без веселья, холодно, чтоб похвастать поваром, салоном, и потом под рукой осмеять, подставить ногу один другому. Третьего дня, за обедом, я не знал, куда смотреть, хоть под стол залезть, когда началось терзание репутаций отсутствующих: «Тот глуп, этот низок, другой вор, третий смешон» настоящая травля! Говоря это, глядят друг на друга такими же глазами: «вот уйди только за дверь, и тебе то же будет»... Зачем же они сходятся, если они таковы? Зачем так крепко жмут друг другу руки? Ни искреннего смеха, ни проблеска симпатии! Стараются залучить громкий чин, имя. «У меня был такой-то, а я был у такого-то», хвастают потом... Что ж это за жизнь? Я не хочу ее. Чему я там научусь, что извлеку? Знаешь что, Илья? сказал Штольц. Ты рассуждаешь, точно древний: в старых книгах вот так все писали. А впрочем, и то хорошо: по крайней мере, рассуждаешь, не спишь. Ну, что еще? Продолжай. Что продолжать-то? Ты посмотри: ни на ком здесь нет свежего, здорового лица... Климат такой, перебил Штольц. Вон и у тебя лицо измято, а ты и не бегаешь, все лежишь. Ни у кого ясного, покойного взгляда, продолжал Обломов, все заражаются друг от друга какой-нибудь мучительной заботой, тоской, болезненно чего-то ищут. И добро бы истины, блага себе и другим нет, они бледнеют от успеха товарища. У одного забота: завтра в присутственное место зайти, дело пятый год тянется, противная сторона одолевает, и он пять лет носит одну мысль в голове, одно желание: сбить с ног другого и на его падении выстроить здание своего благосостояния. Пять лет ходить, сидеть и вздыхать в приемной вот идеал и цель жизни! Другой мучится, что осужден ходить каждый день на службу и сидеть до пяти часов, а тот вздыхает тяжко, что нет ему такой благодати... Ты философ, Илья! сказал Штольц. Все хлопочут, только тебе ничего не нужно! Вот этот желтый господин в очках, продолжал Обломов, пристал ко мне: читал ли я речь какого-то депутата, и глаза вытаращил на меня, когда я сказал, что не читаю газет. И пошел о Людовике-Филиппе, точно как будто он родной отец ему. Потом привязался, как я думаю: отчего французский посланник выехал из Рима? Как, всю жизнь обречь себя на ежедневное заряжанье всесветными новостями, кричать неделю, пока не выкричишься? Сегодня Мехмет-Али послал корабль в Константинополь, и он ломает себе голову: зачем? Завтра не удалось Дон-Карлосу и он в ужасной тревоге. Там роют канал, тут отряд войска послали на Восток; батюшки, загорелось! лица нет, бежит, кричит, как будто на него самого войско идет. Рассуждают, соображают вкривь и вкось, а самим скучно не занимает это их; сквозь эти крики виден непробудный сон! Это им постороннее; они не в своей шапке ходят. Дела-то своего нет, они и разбросались на все стороны, не направились ни на что. Под этой всеобъемлемостью кроется пустота, отсутствие симпатии ко всему! А избрать скромную, трудовую тропинку и идти по ней, прорывать глубокую колею это скучно, незаметно; там всезнание не поможет и пыль в глаза пустить некому. Ну, мы с тобой не разбросались, Илья. Где же наша скромная, трудовая тропинка? спросил Штольц. Обломов вдруг смолк. Да вот я кончу только... план... сказал он. Да бог с ними! с досадой прибавил потом. Я их не трогаю, ничего не ищу; я только не вижу нормальной жизни в этом. Нет, это не жизнь, а искажение нормы, идеала жизни, который указала природа целью человеку... Какой же это идеал, норма жизни? Обломов не отвечал. Ну, скажи мне, какую бы ты начертал себе жизнь? продолжал спрашивать Штольц. Я уж начертал. Что ж это такое? Расскажи, пожалуйста, как? Как? сказал Обломов, перевертываясь на спину и глядя в потолок. Да как! Уехал бы в деревню. Что ж тебе мешает? План не кончен. Потом я бы уехал не один, а с женой. А! вот что! Ну, с богом. Чего ж ты ждешь? Еще года три четыре, никто за тебя не пойдет... Что делать, не судьба! сказал Обломов, вздохнув. Состояние не позволяет! Помилуй, а Обломовка? Триста душ! Так что ж? Чем тут жить, с женой? Вдвоем, чем жить! А дети пойдут? Детей воспитаешь, сами достанут; умей направить их так... Нет, что из дворян делать мастеровых! сухо перебил Обломов. Да и кроме детей, где же вдвоем? Это только так говорится с женой вдвоем, а в самом-то деле только женился, тут наползет к тебе каких-то баб в дом. Загляну в любое семейство: родственницы не родственницы и не экономки; если не живут, так ходят каждый день кофе пить, обедать... Как же прокормить с тремя стами душ такой пансион? Ну хорошо; пусть тебе подарили бы еще триста тысяч, что б ты сделал? спрашивал Штольц с сильно задетым любопытством. Сейчас же в ломбард, сказал Обломов, и жил бы процентами. Там мало процентов; отчего ж бы куда-нибудь в компанию, вот хоть в нашу? Нет, Андрей, меня не надуешь. Как: ты бы и мне не поверил? Ни за что; не то что тебе, а все может случиться: ну, как лопнет, вот я и без гроша. То ли дело в банк? Ну хорошо; что ж бы ты стал делать? Ну, приехал бы я в новый, покойно устроенный дом... В окрестности жили бы добрые соседи, ты, например... Да нет, ты не усидишь на одном месте... А ты разве усидел бы всегда? Никуда бы не поехал? Ни за что! Зачем же хлопочут строить везде железные дороги, пароходы, если идеал жизни сидеть на месте? Подадим-ко, Илья, проект, чтоб остановились; мы ведь не поедем. И без нас много; мало ли управляющих, приказчиков, купцов, чиновников, праздных путешественников, у которых нет угла? Пусть ездят себе! А ты кто же? Обломов молчал. К какому же разряду общества причисляешь ты себя? Спроси Захара, сказал Обломов. Штольц буквально исполнил желание Обломова. Захар! закричал он. Пришел Захар, с сонными глазами. Кто это такой лежит? спросил Штольц. Захар вдруг проснулся и стороной, подозрительно взглянул на Штольца, потом на Обломова. Как кто? Разве вы не видите? Не вижу, сказал Штольц. Что за диковина? Это барин, Илья Ильич. Он усмехнулся. Хорошо, ступай. Барин! повторил Штольц и закатился хохотом. Ну, джентльмен, с досадой поправил Обломов. Нет, нет, ты барин! продолжал с хохотом Штольц. Какая же разница? сказал Обломов. Джентльмен такой же барин. Джентльмен есть такой барин, определил Штольц, который сам надевает чулки и сам же снимает с себя сапоги. Да, англичанин сам, потому что у них не очень много слуг, а русский... Продолжай же дорисовывать мне идеал твоей жизни... Ну, добрые приятели вокруг; что ж дальше? Как бы ты проводил дни свои? Ну вот, встал бы утром, начал Обломов, подкладывая руки под затылок, и по лицу разлилось выражение покоя: он мысленно был уже в деревне. Погода прекрасная, небо синее-пресинее, ни одного облачка, говорил он, одна сторона дома в плане обращена у меня балконом на восток, к саду, к полям, другая к деревне. В ожидании, пока проснется жена, я надел бы шлафрок и походил по саду подышать утренними испарениями; там уж нашел бы я садовника, поливали бы вместе цветы, подстригали кусты, деревья. Я составляю букет для жены. Потом иду в ванну или в реку купаться, возвращаюсь балкон уж отворен; жена в блузе, в легком чепчике, который чуть-чуть держится, того и гляди слетит с головы... Она ждет меня. «Чай готов», говорит она. Какой поцелуй! Какой чай! Какое покойное кресло! Сажусь около стола; на нем сухари, сливки, свежее масло... Потом? Потом, надев просторный сюртук или куртку какую-нибудь, обняв жену за талью, углубиться с ней в бесконечную, темную аллею; идти тихо, задумчиво, молча или думать вслух, мечтать, считать минуты счастья, как биение пульса; слушать, как сердце бьется и замирает; искать в природе сочувствия... и незаметно выйти к речке, к полю... Река чуть плещет; колосья волнуются от ветерка, жара... сесть в лодку, жена правит, едва поднимает весло... Да ты поэт, Илья! перебил Штольц. Да, поэт в жизни, потому что жизнь есть поэзия. Вольно людям искажать ее! Потом можно зайти в оранжерею, продолжал Обломов, сам упиваясь идеалом нарисованного счастья. Он извлекал из воображения готовые, давно уже нарисованные им картины и оттого говорил с одушевлением, не останавливаясь. Посмотреть персики, виноград, говорил он, сказать, что подать к столу, потом воротиться, слегка позавтракать и ждать гостей... А тут то записка к жене от какой-нибудь Марьи Петровны, с книгой, с нотами, то прислали ананас в подарок или у самого в парнике созрел чудовищный арбуз пошлешь доброму приятелю к завтрашнему обеду и сам туда отправишься... А на кухне в это время так и кипит; повар в белом, как снег, фартуке и колпаке суетится; поставит одну кастрюлю, снимет другую, там помешает, тут начнет валять тесто, там выплеснет воду... ножи так и стучат... крошат зелень... там вертят мороженое... До обеда приятно заглянуть в кухню, открыть кастрюлю, понюхать, посмотреть, как свертывают пирожки, сбивают сливки. Потом лечь на кушетку; жена вслух читает что-нибудь новое; мы останавливаемся, спорим... Но гости едут, например ты с женой. Ба, ты и меня женишь? Непременно! Еще два, три приятеля, все одни и те же лица. Начнем вчерашний, неконченный разговор; пойдут шутки или наступит красноречивое молчание, задумчивость не от потери места, не от сенатского дела, а от полноты удовлетворенных желаний, раздумье наслаждения... Не услышишь филиппики с пеной на губах отсутствующему, не подметишь брошенного на тебя взгляда с обещанием и тебе того же, чуть выйдешь за дверь. Кого не любишь, кто не хорош, с тем не обмакнешь хлеба в солонку. В глазах собеседников увидишь симпатию, в шутке искренний, незлобный смех... Все по душе! Что в глазах, в словах, то и на сердце! После обеда мокка, гавана на террасе... Ты мне рисуешь одно и то же, что бывало у дедов и отцов. Нет, не то, отозвался Обломов, почти обидевшись, где же то? Разве у меня жена сидела бы за вареньями да за грибами? Разве считала бы тальки да разбирала деревенское полотно? Разве била бы девок по щекам? Ты слышишь: ноты, книги, рояль, изящная мебель? Ну, а ты сам? И сам я прошлогодних бы газет не читал, в колымаге бы не ездил, ел бы не лапшу и гуся, а выучил бы повара в английском клубе или у посланника. Ну, потом? Потом, как свалит жара, отправили бы телегу с самоваром, с десертом в березовую рощу, а не то так в поле, на скошенную траву, разостлали бы между стогами ковры и так блаженствовали бы вплоть до окрошки и бифштекса. Мужики идут с поля, с косами на плечах; там воз с сеном проползет, закрыв всю телегу и лошадь; вверху, из кучи, торчит шапка мужика с цветами да детская головка; там толпа босоногих баб, с серпами, голосят... Вдруг завидели господ, притихли, низко кланяются. Одна из них, с загорелой шеей, с голыми локтями, с робко опущенными, но лукавыми глазами, чуть-чуть, для виду только, обороняется от барской ласки, а сама счастлива... тс!.. жена чтоб не увидела, боже сохрани! И сам Обломов и Штольц покатились со смеху. Сыро в поле, заключил Обломов, темно; туман, как опрокинутое море, висит над рожью; лошади вздрагивают плечом и бьют копытами: пора домой. В доме уж засветились огни; на кухне стучат в пятеро ножей; сковорода грибов, котлеты, ягоды... тут музыка... Casta diva... Casta diva! запел Обломов. Не могу равнодушно вспомнить Casta diva, сказал он, пропев начало каватины, как выплакивает сердце эта женщина! Какая грусть заложена в эти звуки!.. И никто не знает ничего вокруг... Она одна... Тайна тяготит ее; она вверяет ее луне... Ты любишь эту арию? Я очень рад; ее прекрасно поет Ольга Ильинская. Я познакомлю тебя вот голос, вот пение! Да и сама она что за очаровательное дитя! Впрочем, может быть я пристрастно сужу: у меня к ней слабость... Однакож не отвлекайся, не отвлекайся, прибавил Штольц, рассказывай! Ну, продолжал Обломов, что еще?.. Да тут и все!.. Гости расходятся по флигелям, по павильонам; а завтра разбрелись: кто удить, кто с ружьем, а кто так, просто, сидит себе... Просто, ничего в руках? спросил Штольц. Чего тебе надо? Ну, носовой платок, пожалуй. Что ж, тебе не хотелось бы так пожить? спросил Обломов. А? Это не жизнь? И весь век так? спросил Штольц. До седых волос, до гробовой доски. Это жизнь! Нет, это не жизнь! Как не жизнь? Чего тут нет? Ты подумай, что ты не увидал бы ни одного бледного, страдальческого лица, никакой заботы, ни одного вопроса о сенате, о бирже, об акциях, о докладах, о приеме у министра, о чинах, о прибавке столовых денег. А всё разговоры по душе! Тебе никогда не понадобилось бы переезжать с квартиры уж это одно чего стоит! И это не жизнь? Это не жизнь! упрямо повторил Штольц. Что ж это, по-твоему? Это... (Штольц задумался и искал, как назвать эту жизнь.) Какая-то... обломовщина, сказал он наконец. О-бло-мовщина! медленно произнес Илья Ильич, удивляясь этому странному слову и разбирая его по складам. Об-ло-мов-щина! Он странно и пристально глядел на Штольца. Где же идеал жизни, по-твоему? Что ж не обломовщина? без увлечения, робко спросил он. Разве не все добиваются того же, о чем я мечтаю? Помилуй! прибавил он смелее. Да цель всей вашей беготни, страстей, войн, торговли и политики разве не выделка покоя, не стремление к этому идеалу утраченного рая? И утопия-то у тебя обломовская, возразил Штольц. Все ищут отдыха и покоя, защищался Обломов. Не все, и ты сам, лет десять, не того искал в жизни. Чего же я искал? с недоумением спросил Обломов, погружаясь мыслью в прошедшее. Вспомни, подумай. Где твои книги, переводы? Захар куда-то дел, отвечал Обломов, тут где-нибудь в углу лежат. В углу! с упреком сказал Штольц. В этом же углу лежат и замыслы твои «служить, пока станет сил, потому что России нужны руки и головы для разработывания неистощимых источников (твои слова); работать, чтоб слаще отдыхать, а отдыхать значит жить другой, артистической, изящной стороной жизни, жизни художников, поэтов». Все эти замыслы тоже Захар сложил в угол? Помнишь, ты хотел после книг объехать чужие края, чтоб лучше знать и любить свой? «Вся жизнь есть мысль и труд, твердил ты тогда, труд хоть безвестный, темный, но непрерывный, и умереть с сознанием, что сделал свое дело». А? В каком углу лежит это у тебя? Да... да... говорил Обломов, беспокойно следя за каждым словом Штольца, помню, что я точно... кажется... Как же, сказал он, вдруг вспомнив прошлое, ведь мы, Андрей, сбирались сначала изъездить вдоль и поперек Европу, исходить Швейцарию пешком, обжечь ноги на Везувии, спуститься в Геркулан. С ума чуть не сошли! Сколько глупостей!.. Глупостей! с упреком повторил Штольц. Не ты ли со слезами говорил, глядя на гравюры рафаэлевских мадонн, Корреджиевой ночи, на Аполлона Бельведерского: «Боже мой! Ужели никогда не удастся взглянуть на оригиналы и онеметь от ужаса, что ты стоишь перед произведением Микельанджело, Тициана и попираешь почву Рима? Ужели провести век и видеть эти мирты, кипарисы и померанцы в оранжереях, а не на их родине? Не подышать воздухом Италии, не упиться синевой неба!» И сколько великолепных фейерверков пускал ты из головы! Глупости! Да, да, помню! говорил Обломов, вдумываясь в прошлое. Ты еще взял меня за руку и сказал: «Дадим обещание не умирать, не увидавши ничего этого...» Помню, продолжал Штольц, как ты однажды принес мне перевод из Сея, с посвящением мне в именины; перевод цел у меня. А как ты запирался с учителем математики, хотел непременно добиться, зачем тебе знать круги и квадраты, но на половине бросил и не добился? По-английски начал учиться... и не доучился! А когда я сделал план поездки за границу, звал заглянуть в германские университеты, ты вскочил, обнял меня и подал торжественно руку: «Я твой, Андрей, с тобой всюду» это все твои слова. Ты всегда был немножко актер. Что ж, Илья? Я два раза был за границей, после нашей премудрости, смиренно сидел на студенческих скамьях в Бонне, в Иене, в Эрлангене, потом выучил Европу как свое имение. Но, положим, вояж это роскошь, и не все в состоянии и обязаны пользоваться этим средством; а Россия? Я видел Россию вдоль и поперек. Тружусь... Когда-нибудь перестанешь же трудиться, заметил Обломов. Никогда не перестану. Для чего? Когда удвоишь свои капиталы, сказал Обломов. Когда учетверю их, и тогда не перестану. Так из чего же, заговорил он, помолчав, ты бьешься, если цель твоя не обеспечить себя навсегда и удалиться потом на покой, отдохнуть?.. Деревенская обломовщина! сказал Штольц. Или достигнуть службой значения и положения в обществе и потом в почетном бездействии наслаждаться заслуженным отдыхом... Петербургская обломовщина! возразил Штольц. Так когда же жить? с досадой на замечания Штольца возразил Обломов. Для чего же мучиться весь век? Для самого труда, больше ни для чего. Труд образ, содержание, стихия и цель жизни, по крайней мере моей. Вон ты выгнал труд из жизни: на что она похожа? Я попробую приподнять тебя, может быть в последний раз. Если ты и после этого будешь сидеть вот тут, с Тарантьевыми и Алексеевыми, то совсем пропадешь, станешь в тягость даже себе. Теперь или никогда! заключил он. Обломов слушал его, глядя на него встревоженными глазами. Друг как будто подставил ему зеркало, и он испугался, узнав себя. Не брани меня, Андрей, а лучше в самом деле помоги! начал он со вздохом. Я сам мучусь этим; и если б ты посмотрел и послушал меня вот хоть бы сегодня, как я сам копаю себе могилу и оплакиваю себя, у тебя бы упрек не сошел с языка. Все знаю, все понимаю, но силы и воли нет. Дай мне своей воли и ума и веди меня, куда хочешь. За тобой я, может быть, пойду, а один не сдвинусь с места. Ты правду говоришь: «Теперь или никогда больше». Еще год поздно будет! Ты ли это, Илья? говорил Андрей. А помню я тебя тоненьким, живым мальчиком, как ты каждый день с Пречистенки ходил в Кудрино; там, в садике... ты не забыл двух сестер? Не забыл Руссо, Шиллера, Гете, Байрона, которых носил им и отнимал у них романы Коттень, Жанлис... важничал перед ними, хотел очистить их вкус?.. Обломов вскочил с постели. Как, ты и это помнишь, Андрей? Как же! Я мечтал с ними, нашептывал надежды на будущее, развивал планы, мысли и... чувства тоже, тихонько от тебя, чтоб ты на смех не поднял. Там все это и умерло, больше не повторялось никогда! Да и куда делось все отчего погасло? Непостижимо! Ведь ни бурь, ни потрясений не было у меня; не терял я ничего; никакое ярмо не тяготит моей совести: она чиста, как стекло; никакой удар не убил во мне самолюбия, а так, бог знает отчего, все пропадает! Он вздохнул: Знаешь ли, Андрей, в жизни моей ведь никогда не загоралось никакого, ни спасительного, ни разрушительного огня? Она не была похожа на утро, на которое постепенно падают краски, огонь, которое потом превращается в день, как у других, и пылает жарко, и все кипит, движется в ярком полудне, а потом все тише и тише, все бледнее, и все естественно и постепенно гаснет к вечеру. Нет, жизнь моя началась с погасания. Странно, а это так! С первой минуты, когда я сознал себя, я почувствовал, что я уже гасну! Начал гаснуть я над писаньем бумаг в канцелярии; гаснул потом, вычитывая в книгах истины, с которыми не знал, что делать в жизни, гаснул с приятелями, слушая толки, сплетни, передразниванье, злую и холодную болтовню, пустоту, глядя на дружбу, поддерживаемую сходками без цели, без симпатии; гаснул и губил силы с Миной: платил ей больше половины своего дохода и воображал, что люблю ее; гаснул в унылом и ленивом хождении по Невскому проспекту, среди енотовых шуб и бобровых воротников, на вечерах, в приемные дни, где оказывали мне радушие как сносному жениху; гаснул и тратил по мелочи жизнь и ум, переезжая из города на дачу, с дачи в Гороховую, определяя весну привозом устриц и омаров, осень и зиму положенными днями, лето гуляньями и всю жизнь ленивой и покойной дремотой, как другие... Даже самолюбие на что оно тратилось? Чтоб заказывать платье у известного портного? Чтоб попасть в известный дом? Чтоб князь П* пожал мне руку? А ведь самолюбие соль жизни! Куда оно ушло? Или я не понял этой жизни, или она никуда не годится, а лучшего я ничего не знал, не видал, никто не указал мне его. Ты появлялся и исчезал, как комета, ярко, быстро, и я забывал все это и гаснул... Штольц не отвечал уже небрежной насмешкой на речь Обломова. Он слушал и угрюмо молчал. Ты сказал давеча, что у меня лицо не совсем свежо, измято, продолжал Обломов, да, я дряблый, ветхий, изношенный кафтан, но не от климата, не от трудов, а от того, что двенадцать лет во мне был заперт свет, который искал выхода, но только жег свою тюрьму, не вырвался на волю и угас. Итак, двенадцать лет, милый мой Андрей, прошло: не хотелось уж мне просыпаться больше. Зачем же ты не вырвался, не бежал куда-нибудь, а молча погибал? нетерпеливо спросил Штольц. Куда? Куда? Да хоть с своими мужиками на Волгу: и там больше движения, есть интересы какие-нибудь, цель, труд. Я бы уехал в Сибирь, в Ситху. Вон ведь ты всё какие сильные средства прописываешь! заметил Обломов уныло. Да я ли один? Смотри: Михайлов, Петров, Семенов, Алексеев, Степанов... не пересчитаешь: наше имя легион! Штольц еще был под влиянием этой исповеди и молчал. Потом вздохнул. Да, воды много утекло! сказал он. Я не оставлю тебя так, я увезу тебя отсюда, сначала за границу, потом в деревню: похудеешь немного, перестанешь хандрить, а там сыщем и дело... Да, поедем куда-нибудь отсюда! вырвалось у Обломова. Завтра начнем хлопотать о паспорте за границу, потом станем собираться... Я не отстану слышишь, Илья? Ты все завтра! возразил Обломов, спустившись будто с облаков. А тебе бы хотелось «не откладывать до завтра, что можно сделать сегодня»? Какая прыть! Поздно нынче, прибавил Штольц, но через две недели мы будем далеко... Что это, братец, через две недели, помилуй, вдруг так!.. говорил Обломов. Дай хорошенько обдумать и приготовиться... Тарантас надо какой-нибудь... разве месяца через три. Выдумал тарантас! До границы мы поедем в почтовом экипаже или на пароходе до Любека, как будет удобнее; а там во многих местах железные дороги есть. А квартира, а Захар, а Обломовка? Ведь надо распорядиться, защищался Обломов. Обломовщина, обломовщина! сказал Штольц, смеясь, потом взял свечку, пожелал Обломову покойной ночи и пошел спать. Теперь или никогда помни! прибавил он, обернувшись к Обломову и затворяя за собой дверь.Для того, чтобы жить свободно и счастливо, вы должны пожертвовать скукой. Это не всегда легкая жертва.
Ричард Бах.
Самое вкусное в психологических тренингах — это не запланированные результаты, их худо-бедно я могу предсказать, — а неожиданности. Казалось бы, тренер ошибся, чё такого? Но вот тут-то самое вкусное и наступает. Без этой ошибки в жизни б ты об этом не догадался, а иной раз даже и не задумался бы. Вот часто ли вы размышляете о скуке? Я тоже нет. Чего о ней размышлять, казалось бы.
А она, оказывается, не так проста…
Рассказываю предысторию.
Однажды был тренинг по изучению командного взаимодействия, и первоначальное задание прозвучало — собрать всей командой три квадратика из деталек. Ну, детсадовское такое задание, взрослым людям смешно — веселились все, как дети. Быстро собрали, куча деталек лишних ещё осталось — хохот, веселье, взрослые отрываются в атмосфере детской игры.
А потом выяснилось, что тренер ошибся и задание дал не полностью. Извинился, переформулировал: «Собрать три квадратика так, чтоб лишних деталек не оставалось». Ну, оно задание посложнее, конечно, — но, прямо скажем, тоже не бином Ньютона. Было б сразу задание именно таким — все бы веселились и его выполняли тоже, ну затратили бы не тридцать секунд на него, а, скажем, минуту или даже две. Не страшно же, правда?
Но тут, парадоксальным образом, энергия у народа как-то подугасла, лучистость померкла и веселье свернулось. Многие вообще из упражнения вывалились: собирайте вы сами свои дурацкие квадратики, скучно!
Что такое случилось? Только что не скучно было — и тут вдруг сразу скучно, и азарт пропал, и глаза погасли. Хотя, очевидно, задание не намного сложнее, и по веселости первому ничуть не уступает, в том смысле, что тот же уровень — детский сад, средняя группа. Хочешь веселиться — веселись. Но даже я на какое-то время испытала скуку и раздражение: какого чёрта? Мы уже собрали наши квадратики! Шо, опять?!
Ну, понятно, по новым правилам квадратики мы заново собрали. Из всей команды удержались в собирании квадратиков двое бойцов, остальные копили силы на шеринг, тренера прессовать за ошибки. И вот там-то и прозвучало озарение: оказывается, те, кто вывалился из упражнения, просто потеряли веру в свои силы. Прозвучало это так: «мы щас соберем квадратики из всех деталек — а нам ещё какое-нибудь требование выдвинут, нееее, скучно». Хотя, понятно, реальная жизнь, в отличие от тренингов, подбрасывает нам такие задачки сплошь и рядом.
Итак, что же такое скука?
Получается, что скука — это ситуация, когда человек сам не дает собственному интересу реализоваться, чтобы не тратить силы на выполнение задания, вероятность успеха в котором оценивает как низкую. То есть, ситуация, в которой требования повышаются — и не вполне ясно, где ж им конец будет. Скука работает в качестве психологической защиты от неудачи: типа, не очень-то и хотелось!
На тренинге у людей был интерес к собиранию квадратиков — но как только изменилась внутренне оцениваемая вероятность успеха, многим стало скучно. Сработали психологические защиты типа «зелен виноград». Это «чистая» модель.
Но в реальной жизни это тоже работает: скажем, поступил человек в институт. Когда поступал — выбрал именно его, то есть, интерес какой-никакой был (уж всяко не меньше, чем у нас к собиранию квадратиков). А учиться стал — нет интереса, скучно!
Многие люди сами к себе относятся, как тот тренер к группе: всё вводят и вводят новые требования, никогда не поздравляя себя с достигнутым результатом. Заставляют себя достигать всё большего — а оно всё скучнее и скучнее, и всё сильнее приходится себя заставлять.
Замкнутый круг:
Приходится себя заставлять посильнее, потому что скучно. Чтобы заставить себя посильнее — приходится вводить всё новые требования, а не поздравлять себя с достигнутым результатом. Чем больше новых требований — тем скучнее. А чем скучнее — тем сильнее приходится себя заставлять…
И это ещё мы говорим только о скуке в отношении какого-то задания. А ведь есть люди, которым жить скучно!
Могу предположить, почему.
Свой рецепт избавления от скуки, если она где-то появилась, предлагаю разработать каждому самостоятельно, а я из своего эпизода скуки выбралась за две секунды. Как? Читайте вот
Тем более, рецептов тут, очевидно, может быть не один и не два.
(Из письма)
Там, где все кажется безутешным, утешение уже стоит у порога. Прислушайся, оно стучится в дверь… Открой ему без промедления, ибо оно несет тебе самое лучшее - самое себя.
Что может быть безутешнее скуки? Кто знает, откуда она берется? Но вот она уже здесь. Жизнь становится внезапно такой бедной, такой бесцветной, такой сухой и такой чужой. Ничто не привлекает, ничто не радует, ничто не приветствует меня ни тут, ни там. Всюду только увядшая трава, серые камни, мертвая пустыня жизни. Время становится пустым и тянется медленно. Все сущее оставляет меня равнодушным; а то, что должно занять его место - неопределенно: я этого не знаю… Напрасно я брожу в потемках: все «не то»-. Но ведь я остался тем же самым; значит, это мир, это он сделался скучным. Мир банален и низок; слишком банален и слишком низок для меня; он ничего не может мне предложить. И моя скука только подтверждает мое «духовное превосходство»…
О, жалкое утешение! Едва ты почувствовал радость от собственного превосходства, как скука тут же исчезает, между тем она утверждается навсегда, уплотняясь, делается жизненной установкой и мрачно светится из твоих глаз высокомерием и жестокой душевной депрессией. Нет, истинное утешение приходит из глубин твоего собственного духа!
Источник скуки - не в мире, а в тебе. На какое-то время ты устал от жизни; оставь, не принуждай себя, любовь проснется сама по себе… Может быть, ты слишком сильно любил? Или твоя любовь не находила ответа? Или ты сам помешал своей любви? Или у тебя не хватило воли для любви?.. Короче, твоя любовь ушла; она повернулась к миру спиной и больше не дарит себя. Молчат желания; сердце не хочет больше петь - ни Богу, ни идолу, и кажется, мир потерял свою прелесть.
Душа без желаний всматривается в мир, глядит на него без любви и именно поэтому находит его жалким и скучным.
Но мир совсем не таков: природа, как всегда, полна чудесных тайн; человек, как всегда, полон страсти и стремлений, запутан, божествен и инфернален одновременно, в целом - несравненное зрелище! Мир остался таким же, что и был. Бездеятельно только твое желание; и ты называешь это бездействие «скукой». Но в действительности скука лишь только взгляд вокруг в поисках утешения, исцеления, нового желания, новых ценностей. И прежде всего - новой любви к ближнему, к твоему народу, к Богу.
Надо прежде всего найти в себе мужество перенести скуку: переноси ее спокойно, она исчезнет сама по себе, когда возродится любовь.
Но это не должно быть слишком долгим… Скука должна быть краткой, ведь и сама жизнь слишком коротка для долгой скуки.
Скука подобна темным очкам; она искажает мир, однако дает отдохновение оку сердца. Но довольно, око отдохнуло, прочь очки, чтобы снова смеялись солнце и краски! Смотри и радуйся!
Есть особое искусство: примириться с сущим, творчески соединиться с ним, вновь найти отправную точку и отдаться ему.
Есть особое искусство: преобразиться и всегда находить новое в старом, ценность в, казалось бы, обесцененном, любимое в безразличном.
Есть особое искусство: всегда что-то любить и чего-то хотеть. И это должно быть тем, что не может разочаровать.
Этому учит скука. Это - средство от скуки. Это ее утешение: ведь скука сама утешение.
Из книги Проблемы жизни автора Джидду КришнамуртиСКУКА Дождь прекратился; дороги очистились, а с деревьев была смыта пыль. Земля освежилась; в пруду громко квакали лягушки, толстые, с раздутым от удовольствия горлом. Трава сверкала нежными капельками воды, а на земле после сильного ливня воцарился мир. Стада промокли
Из книги Философское чтиво, или Инструкция для пользователя Вселенной автора Райтер МайклСКУКА Теория: Скука – это неопределенная эмоция – не то положительная, не то отрицательная, – куда перевесит. Скука – это не апатия. Скука – это когда у Вас все хорошо, но нечем заняться.Процесс: 1. Как бы (еще) Вы могли поскучать? 2. Как (еще) Вы могли бы развеяться?
Из книги Беседы с Кришнамурти автора Джидду КришнамуртиСкука Дожди прекратились, дороги были чистыми, и с деревьев смыло пыль. Земля была посвежевшей, и в водоеме квакали лягушки. Довольно крупные по размеру, глотки лягушек раздувались от удовольствия. Трава искрилась от крошечных капелек воды, а на земле воцарился покой
Из книги Я вглядываюсь в жизнь. Книга раздумий автора Ильин Иван Александрович1. Скука (Из письма)Там, где все кажется безутешным, утешение уже стоит у порога. Прислушайся, оно стучится в дверь… Открой ему без промедления, ибо оно несет тебе самое лучшее - самое себя.Что может быть безутешнее скуки? Кто знает, откуда она берется? Но вот она уже здесь.
Из книги Комментарии к жизни. Книга вторая автора Джидду КришнамуртиСкука Дожди прекратились, дороги были чистыми, и с деревьев смыло пыль. Земля была посвежевшей, и в водоеме было слышно лягушек. Они были крупными, и их глотки раздувались от удовольствия. Трава искрилась от крошечных капелек воды, и на земле воцарился покой после сильного
Из книги Гуманистический психоанализ автора Фромм Эрих ЗелигманнХроническая депрессия и скука (тоска) Проблема стимулирования (возбуждения) тесно связана с феноменом, который не имеет ни малейшего отношения к возникновению агрессии и деструктивности: речь идет о скуке (тоске). С точки зрения логики феномен скуки следовало бы
Из книги Философия экзистенциализма автора Больнов Отто Фридрих5. СКУКА, ТОСКА, ОТЧАЯНИЕ Наряду с этим и другие становящиеся значимыми для экзистенциальной философии настроения - скука, тоска, отчаяние - обретают свое экзистенциальное значение за счет того, что в соответствующих формах повторяют результат страха, выкликая
Из книги Основные понятия метафизики. Мир – Конечность – Одиночество автора Хайдеггер Мартинс) Глубокая тягостная скука (die Langeweile) как сокрытое фундаментальное настроение культурно-философских толкований нашего положения Для нас все эти вопросы вторичны. Мы даже не спрашиваем, правильны или неправильны все эти толкования нашего положения. В таких случаях
Из книги Философский словарь автора Конт-Спонвиль АндреГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. ТРЕТЬЯ ФОРМА СКУКИ: ГЛУБОКАЯ СКУКА КАК БЕЗЛИЧНОЕ «СКУЧНО» § 29. Предпосылки для проникновения в существо скуки и времени: постановка-под-вопрос понимания человека как сознания; самораскрытие глубины существа скуки После перерыва мы попытаемся вкратце
Из книги автора§ 30. Больше-не-допущение коротания времени как понимание могущества глубокой скуки. Принужденность к слушанию того, что дает понять глубокая скука Знакома ли нам эта глубокая скука? Может быть, и знакома. Но теперь, после всего сказанного, мы знаем: чем она глубже, тем тише,
Из книги автора§ 33. Существенное значение слова «тягостная скука» (die Langeweile): удлинение протяженности времени, совершающееся в глубокой скуке, как расширение временного горизонта и исчезновение острия мгновения И все же как раз теперь мы можем, исходя из истолкования третьей формы
Из книги автораСкука (Ennui) «Время есть то, что проходит, когда ничего не происходит». Не знаю, кто автор этой формулировки, но он дал совершенно точное определение скуки. Скука – трата времени, бессмысленным образом сведенного к самому себе, так, будто время существует помимо всего, что