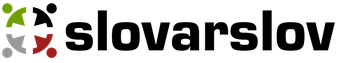Творчество А. Солженицына в критике и литературоведении
Михаил КОПЕЛИОВИЧ - родился в 1937 году в Харькове. Окончил Харьковский политехнический институт, работал по специальности. Как литературный критик и публицист выступает с 1960-х гг. Печатался в журналах «Звезда», «Знамя», «Континент», «Нева», «Новый мир» и др. С 1990 года живет в Израиле.
К выходу второго тома исследования
Александра Солженицына «Двести лет вместе»
Между этими тремя «фигурантами» существуют множественные связи и пересечения.
Сталин не знал о существовании Солженицына, зато о существовании Еврейского Вопроса 1 знал прекрасно и сам руку приложил к его, так сказать, постановке и разрешению.
Солженицын не единожды писал о Сталине: и в личной переписке во время Отечественной войны, и в своих сочинениях («В круге первом», «Архипелаг ГУЛАГ», поздний рассказ «На краях»). Что касается Еврейского Вопроса, то еще не затихла полемика вокруг первой части книги «Двести лет вместе», но это отнюдь не единственное произведение Солженицына, в котором он касается этой темы.
Стоит отметить, что в 2003 году исполнилось пятьдесят лет со дня смерти Сталина (март) и восемьдесят пять - со дня рождения Солженицына (декабрь). Возможно, и сто двадцать пять - со дня рождения Сталина, ибо, по некоторым данным (см. например, «Всемирный биографический энциклопедический словарь», М., 1998), он родился не обязательно в 1879 году, как раньше считалось; не исключено, что и в 1878-м. Все эти юбилеи достойны упоминания не как таковые, а в качестве свидетельства незатухающего интереса к самим юбилярам, хотя кое-кто и рад бы похоронить их в архивах российской истории. Ну, а уж Еврейский Вопрос, также отмечавший недавно два трагических юбилея собственной истории - 60-летие Ванзейской конференции, принявшей программу нацистского «окончательного решения» (январь 1942), и 50-летие расправы с еврейской интеллигенцией в Советском Союзе (август 1952) - и сам предпочел бы давно решиться. Во благо своему народу, разумеется. Да только у других народов такое, увы, не всем по вкусу...
Сразу оговорюсь, что меня занимает не проблема персонально-подсознательного отношения как Сталина, так и Солженицына к евреям, а только та позиция по Еврейскому Вопросу, которая более или менее очевидно выявилась в их выступлениях (толкуя это понятие расширительно, вплоть до судьбоносных сталинских решений). От чтения в душах, столь любезного части наблюдателей, я воздержусь.
В книге «Бодался теленок с дубом» Солженицын рассказывает об одном разговоре с Твардовским, состоявшемся в 1962 году (год публикации «Одного дня Ивана Денисовича» - вот, кстати, еще один юбилей, наступивший в ноябре 2002). «Подошла необходимость какой-то сжимок биографии все-таки сообщить обо мне - Т.А. (Твардовский. - М.К .) сам взял перо и стал эту биографию составлять. Я считал нужным указать в ней, за что я сидел, - за порицательные суждения о Сталине, но Твардовский резко воспротивился, просто не допустил. <...> Сам он долго верил в Сталина, и всякий уже тогда не веривший как бы оскорблял его сегодняшнего».
Спросите себя, господа бывшие советские, особенно воевавшие с немцами, могли вы даже помыслить - не то что кому-нибудь написать - о Сталине в сильно оппозиционном духе при его жизни, тем более в годы войны? Нет, конечно. Осуждавших Сталина еще тогда, в первой половине 40-х, было - раз-два и обчелся. А уж писавших... В переписке Солженицына с его старым другом Витке-вичем (с одного фронта на другой) диктатор фигурировал под условной кличкой «Пахан», взятой из воровского жаргона, но ведь чекисты тоже наверняка употребляли этот «термин». Во всяком случае, из контекста писем им было совер-шенно понятно, кто такой этот самый Пахан. За него-то оба друга и были аресто-ваны. (Впоследствии Виткевич продался коммунистам и ради сохранения своей научной карьеры послушно оклеветал своего бывшего друга и однодельца.)
На многих страницах романа «В круге первом» Сталин является собственной персоной (конечно, в качестве художественного образа), а кое-где и «встречается» с третьим компонентом трехчлена - Еврейским Вопросом. Непосредственно Сталину посвящены подряд пять глав романа - с 19-й по 23-ю. Эти главы - сплав достоверности и гротеска, брезгливой жалости и беспощадного препарирования характера и нрава человека, чье имя склонялось всеми газетами земного шара и «запекалось на обмирающих губах военнопленных, на опухших деснах арестантов». Но - откуда жалость? Так ведь в декабре 1949 года, в последнюю декаду которого вмещено действие романа, Сталин «был просто маленький желтоглазый старик», паршиво чувствовавший себя все последнее время. Жалость тесно сопряжена с насмешкой: этому державцу полумира «не стоило большого труда исключить себя из мирового пространства, не двигаться в нем. Но невозможно было исключить себя из времени», которое приходилось переживать как болезнь.
А. Рыбаков в «Детях Арбата» изобразил движение мысли Сталина, изобразил без малейшей иронии, что в контексте той книги было вполне оправдано. Но в результате - быть может, против воли самого автора - Сталин у Рыбакова выглядит исполином, пусть и чудовищным в своей мизантропии. Впрочем, в «Детях Арбата» - другое время: начало 30-х годов, а не конец 40-х. У Солженицына иная задача: дать контрапункт физической дряхлости и негаснущего сатанинского пламени, высмеять непомерные претензии смертного существа, земное могущество которого не отменяет его плотской, конечной природы, изумиться способности человека, вооруженного знанием слабых сторон человеческой природы, без колебаний использовать это знание во вред людям, подчинить себе миллионы и миллионы.
Вот как писатель реализует свой замысел (это лишь один пример, но таких на самом деле много):
«Положив себе дожить до девяноста, Сталин с тоскою думал, что лично ему эти годы не принесут радости, но просто должен домучиться еще двадцать лет ради общего порядка в человечестве.
Семидесятилетие праздновал так. 20-го вечером забили насмерть Трайчо Костова (одного из лидеров болгарских коммунистов. - М.К. ). Только когда глаза его собачьи остеклели - мог начать настоящий праздник».
Всего четыре фразы, но в них и ирония по поводу готовности тирана пренебречь личными удобствами ради выполнения общественного (и даже общечеловеческого!) долга; и тут же, без зазора, каннибальское торжество по поводу успешного съедения еще одной политической жертвы; и сама эта фразеология, сотканная из материалов, казалось бы, не сочетаемых - стоического смирения и палаческого рыка.
В главе 20-й «Этюд о великой жизни» Сталин пускается в размышления о горькой своей доле (в концовке предыдущей главы Солженицын называет это «угнетенным строем мысли»). Его все обманывали. Сперва сам Господь Бог, над которым «в шумном Тифлисе умные люди давно уже смеялись». Потом - Революция: «Революция? Среди грузинских лавочников? - никогда не будет! А он потерял семинарию, потерял верный путь жизни». Когда же «третью ставку своей молодости он поставил на секретную полицию» (автор «Круга» описывает версию, согласно которой Сталин был завербован охранкой в качестве осведомителя; версия как будто не вполне доказанная, но, однако же, и не совершенно фантастическая), «для него начался долгий период безнаказанности». Но снова: охранка его обманула, и третья ставка его была бита. Грянула революция 1905 года... И так постоянно.
А в 17-м Сталин чуть было не поставил на «положительных людей» вроде Каменева, а тут наскочил «этот авантюрист, не знающий России, лишенный всякого положительного равномерного опыта, и, захлебываясь, дергаясь и картавя, полез со своими апрельскими тезисами...».
А вот и первое появление Еврейского... нет, еще не Вопроса, только предощущения: «Гришку Зиновьева камнями бы забросали матросы. Потому что уметь надо разговаривать с русским народом».
Вся 20-я глава - краткий курс вознесения Сталина на партийный государственный Олимп, изложенный ядовито, смешно (ведь все через восприятие героя, с использованием его, а не «своей», лексики), но и - устрашающе. «Как сказочный богатырь, Сталин изнемогал (! - М.К. ) отсекать все новые и новые вырастающие головы гидры». А за страницу до этого впервые возникает в сознании романного Сталина само слово «евреи», причем не в негативном (чего можно было ждать после «все этой шайки, которая наверх лезла, Ленина обступала», а шайка-то сплошь евреи: Троцкий, Зиновьев, Каменев и многочисленные их клевреты!), а в сугубо положительном контексте. Речь тут об изменниках в годы Отечественной войны, имя же им (в голове Сталина) - легион. «Изменили украинцы <...>; изменили литовцы, эстонцы, татары, казаки, калмыки, чечены, ингуши, латыши - даже опора революции - латыши! И даже родные грузины, обереженные от мобилизации, - и те как бы не ждали Гитлера! И верны своему Отцу остались только: русские да евреи».
Мозг Сталина неутомим. Вот уже мысли его переместились в сторону русского патриотизма (глава 22). Ему «с годами уже хотелось, чтоб и его призна-вали за русского тоже». Это - раз. Второе же: «Сталин задумывался иногда, что ведь не случайно утвердился он во главе этой страны и привлек сердца ее - именно он, а не все те знаменитые крикуны и клинобородые талмудисты (разрядка моя. - М.К. ) - без родства, без корней, без положительности».
Ярлык «талмудисты» Солженицын не приписывает своему персонажу, а берет его готовым из «дискуссий» 48-50-х годов, в которых он обретался рядом с другими, не менее поносным - «начетчики». Нет сомнений, что этот двучлен мог родиться в одной голове - бывшего семинариста Сосо Джугашвили.
Но подлинное пересечение Сталина и Еврейского Вопроса произошло в другой голове - Адама Ройтмана, майора КГБ, главного инженера Марфинской шарашки. А толчок тому направлению мысли прежде преуспевавшего Адама Вениаминовича, которое растравило в нем сжимающее душу кольцо обид («Кольцо обид» - так называется глава 73 «Круга», в которой описана одна ночь бедного Адама), дал визит к нему «одного давнишнего друга его, тоже еврея. Пришел он без жены, озабоченный, и рассказывал о новых притеснениях, ограничениях, снятиях с работы и даже высылках». Кто явился жертвой всех этих «новых»? Впрочем, как сказано дальше (не забудем: все - мысли Ройтмана), «…это не было ново. Это началось еще прошлой весной (точнее, в январе 49-го года. - М.К. ), началось сперва в театральной критике и выглядело как невинная расшифровка еврейских фамилий в скобках. Потом переползло в литературу». И поползло дальше: «...кто-то шепнул ядовитое словцо - космополит». Когда-то «прекрасное гордое слово <...> слиняло, сморщилось, зашипело и стало значить - жид».
Ройтману хватает ума и, главное, интеллектуального мужества, чтобы - пусть в собственном доме, в ночной тишине и только мысленно - связать новые го-нения с именем Лучшего Друга Всех Народов Мира. «Бич гонителя израильтян незаметно, скрываясь за второстепенными лицами, принимал Иосиф Сталин». От кого принимал? - позволительно спросить. Уж не от Адольфа ли Гитлера?..-
И получается, что такова благодарность капризного диктатора одной из двух наций, которые, по его же собственному разумению, «не ждали Гитлера» и остались «верны своему Отцу» в самую страшную годину. Впрочем, он (Он!) и русских отблагодарил сходным образом.
Тут предвижу упреки со стороны специалистов по чтению в душах. Дескать, купился наивняк! Проглотил наживку с антисемитским душком! Во-первых, кому поручил Солженицын «разбираться» со Сталиным? Гэбисту, т.е. заведомо нехорошему еврею, принадлежащему к касте еврейских палачей русского народа, коих так много резвится на страницах «Архипелага ГУЛАГ». Во-вторых, того же Ройтмана и в этой же самой главе заставляет его создатель ежиться от некой юношеской истории (не выдуманной! Солженицын взял ее из собственной биографии), в которой он неправедно (таково его теперешнее ощущение) травил русского мальчика, обвиненного в антисемитских проявлениях. Вот, мол, где открылось истинное отношение писателя к Еврейскому Вопросу. И, в-третьих, разве случайно вывел он в том же «Круге» и еврея-раскулачивателя (Рубина), и еврея-стукача (Исаака Кагана), и евреев - ортодоксальных коммунистов (того же Рубина и Абрамсона)? Отметаю сии «обличения» за их смехотворностью.
Во второй части «Двухсот лет вместе» всякое появление Сталина, связанное с Еврейским Вопросом, либо прямо губительно для последнего, либо осторожно выжидательно (т.е. сугубо прагматично, при явно недоброжелательной подкладке). Правда, в ряде случаев Солженицын опирается на свои или других авторов догадки и предположения , но при отсутствии или сокрытии подтверждающих документов (сталинская же извечная манера) это представляется вполне допустимым. Так, утвердительно пишет Солженицын: «Сталин к концу 20-х не провел задуманной было им «чистки» соваппарата и партии от евреев...». Или, ссылаясь на материал, посвященный концу дипломатической карьеры М.М. Литвинова (автор - З. Шейнис), сообщает: «Литвинов еще пригодился в войну послом в США, а уезжая оттуда в 1943, имел смелость передать Рузвельту от себя лично письмо, что Сталин развязывает в СССР антисемитскую кампанию».
В других же случаях писатель не пренебрегает ссылаться и на официальные советские источники, а однажды - на сочинения Самого. Кстати, интересная история. В январе 1931 года мировая печать опубликовала «внезапное демонстративное заявление Сталина Еврейскому Телеграфному Агентству: «Коммунисты, как последовательные интернационалисты, не могут не быть непримиримыми (три «не» в одной полуфразе для не слишком грамотного читателя, а тем более переводчика на другой язык - трудно постигаемое сочетание. - М.К. ) и заклятыми врагами антисемитизма. В СССР строжайше преследуется законом антисемитизм, как явление, глубоко враждебное советскому строю. Активные антисемиты караются по законам СССР смертной казнью»». Здесь ссылка на последний том тринадцатитомного собрания сочинений Сталина, изданного в 1946-1951 годах. «Но характерно, - комментирует Солженицын, - в советской прессе это заявление Вождя не было напечатано (по его лукавой запасливости), оно произносилось для экспорта, а от своих подданных он скрыл эту позицию, - и в СССР было напечатано только в конце 1936».
А из более поздних: «За восемь последних сталинских лет произошли: атака на «космополитов», потеря (евреями. - М.К. ) позиций в науке, искусстве, прессе, разгром Еврейского Антифашистского Комитета, с расстрелом главных членов, и «дело врачей». По конструкции тоталитарного режима первым орудием ослабления еврейского присутствия в управлении и не мог стать никто иной, как сам Сталин, только от него мог быть первый толчок». Солженицын здесь категоричен и в этой своей категоричности, безусловно, прав. Как прав и в другом. В том, что Сталин же был и главным идеологом (если это позволительно именовать идеологией) соблюдения полной скрытности при проведении антиеврейских, как и многих других, мероприятий. «Отношение советской власти к евреям могло меняться годами - а почти ни в чем не выходя на агитационную поверхность». После заключения пакта Молотова-Риббентропа «не только еврей Литвинов был заменен Молотовым и началась «чистка» аппарата наркомата иностранных дел, но и в дипломатические школы и в военные академии не стало доступа евреям. Однако еще прошло немало лет, пока стало внешне заметно исчезновение евреев из наркоминдела и резкое падение их роли в наркомвнешторге». А дальше Солженицын приводит еще более характерный пример: что уже с конца 1942 года в аппарате Агитпропа наметились негласные (ну, конечно! - М.К. ) усилия потеснить евреев из таких центров искусства, как Большой театр, московские Консерватория и Филармония, но «по секретности советских внутрипартийных движений - привременно никто не был осведомлен» об этих движениях. Ну, а уж дальше поехало-понеслось: за потеснением евреев из управленческих структур их начали гнать отовсюду, даже из инженерно-технической и научной сфер, где их вклад, особенно в Отечественную войну, был неоспорим.
Тут есть один пункт, по которому я хотел бы возразить Солженицыну. Может быть, и вправду «в зависимости от обстановки Сталин то поддерживал, то осаживал» усилия по изъятию евреев из разных областей советской жизни, но пример с Украиной, заимствованный писателем у С. Шварца (из его книги «Евреи в Советском Союзе с начала Второй мировой войны»), представляется малоубедительным. По С. Шварцу (в передаче Солженицына), с конца 1946 года обстановка на Украине «заметно изменилась в пользу евреев», а с начала 1947-го, после передачи украинской компартии «от Хрущева в руки Кагановича», евреи стали выдвигаться и на партийные посты. Возможно, отдельные такие случаи и были, но, во-первых, Каганович скорей всего евреев не столько отличал, сколь отлучал (чтобы чего про него не подумали), а во-вторых, именно в начале 47-го моего отца, по смехотворному поводу, сняли с должности директора большого научного института в Харькове, а на его место посадили «национальный кадр».
На авансцену выдвигается Еврейский Вопрос - разумеется, как его видит и представляет Солженицын. «В правительственной газете стояло: «Нет у нас еврейского вопроса. На него уже давно дала категорический ответ Октябрьская революция. Все национальности равны - вот был этот ответ». Однако когда в избу приходили раскулачивать не просто комиссар, но комиссар-еврей, то вопрос маячил». Цитата из правительственной газеты («Известия») относится к 20-м годам (в ссылке указана и дата выхода газетного номера - 20 августа 1927), так что тема раскулачивания возникает здесь несколько преждевременно. Впрочем, несмотря на этот анахронизм, по существу комментарий писателя верен. Кто-то скажет, что раскулачивать спустя два-три года приходили комиссары разных национальностей; подчеркивание участия в этом злодействе евреев - еще одна иллюстрация солженицынской необъективности. Но если взять главу «Двадцатые годы» в целом, нельзя не признать, что автор поворачивает «медаль» не только одной стороной. «Нет, власть тогда была - не еврейская, нет. Власть была интернациональная. По составу изрядно и русская. Но при всей пестроте своего состава - она действовала соединенно, отчетливо антирусски, на разрушение русского государства и русской традиции». И разве это не так? Вина евреев, если уж определять в категориях вины (не юридической, понятно, а моральной), состоит - и по Солженицыну, и по жизни - в том, что они участвовали в этой антирусской пляске смерти, и участвовали активно . «И хотя объяснять действия разрушителей национальными корнями или побуждениями - ошибочно, но и в России 20-х годов тоже неотвратимо витал вопрос <...>: почему ж «всякому, кто имел несчастье попасть в руки ЧК, предстояла весьма высокая вероятность оказаться перед еврейским следователем или быть расстрелянным им»» (цитата, в переводе, из статьи известного в 50-60-х годах Леонардо Шапиро «Роль евреев в русском революционном движении», напечатанной в Лондоне в 1962 году).
Солженицын цитирует также статью знаменитой 2 Екатерины Кусковой, опубликованную в эмигрантской русской газете «Еврейская трибуна» в 1922 году (в тот год ее как раз выслали из СССР, а за год до того она, социалистка, еще успела понюхать и внутрисоветской ссылки). Кускова свидетельствует, что встречала высококультурных евреев, «которые были подлинными антисемитами нового «советского типа»». Что ж это за новый тип? Врач-еврейка жаловалась ей на то, что еврейские большевистские администраторы испортили ее прекрасные отношения с местным населением. Кускова приводит и другие примеры подобного свойства и резюмирует: «Всем этим полна сейчас русская жизнь». А Солженицын помещает сходные свидетельства и многих авторов-евреев: Д. Пасманика, Г. Ландау, даже Ю. Ларина, видного большевика, будущего тестя Бухарина.
Говоря о значительном «засорении» в 20-е годы советских властных структур функционерами еврейского происхождения, Солженицын не забывает и печально знаменитую Евсекцию, созданную еще при наркоме национальностей Сталине. Во второй половине 20-х деятельность этой организации, много потрудившейся на ниве распространения коммунистического влияния на российское еврейство и приобщения оного к соцстроительству, постепенно сошла на нет. Но уже так прикипели эти самые «евсеки» к советской власти, что и после закрытия своей «епархии» «не протрезвели, не оглянулись на соплеменников, поставили «социалистическое строительство» выше блага своего народа или любого другого: остались служить в партийно-государственном аппарате. И эта многообильная служба была больше всего на виду». И не только в 20-е годы.
Характерна - для умонастроения автора «Двухсот лет вместе» - концовка главы «Двадцатые годы». Тут приводятся выдержки из статьи современного публициста-еврея, опубликованной в 1994 году в московском журнале «Новый мир». Автор этот - Г. Шурмак - весьма неодобрительно отзывается о тех своих соплеменниках, которые на протяжении десятилетий гордились евреями, сделавшими блестящую карьеру при большевиках, а что при этом страдал русский народ, не задумывавшимися. «Поразительно единодушие, с каким мои соплеменники отрицают какую-либо свою провинность в русской истории XX века». Комментарий Солженицына: «Ах, как целительно звучали бы для обоих наших народов такие голоса, если б не были утопающе-единичны...».
Ну что ж. Что такие голоса воистину единичны всегда (покаяние и по определению единично, а не массово) - правда. Как правда и то, что если такие голоса звучат, хотя бы и с запозданием на полвека и более, - значит, совесть человеческая (а отсюда и народная) теплится, невзирая на чудовищное давление одичалых политических режимов, стремящихся в первую очередь сплющить индивидуальную совесть до состояния ручного зверька, принимающего корм из чужих рук...
Солженицын, как мы уже видели, отнюдь не склонен преувеличивать роль евреев в разрушении русского государства и русской традиции. Но и выступает против всякого рода попыток, диктуемых в одних случаях недомыслием, в других - желанием ускользнуть от ответственности, преуменьшения этой роли. Либо - такого ее истолкования, при котором она становится исключительно страдательной. Нельзя, утверждает он, согласиться с теми, кто говорит лишь об использовании евреев советской диктатурой и последующей ликвидации их, по миновании надобности. Нет, большевики если что и использовали (в своих политических, а - возможно, полагали они - и в национальных интересах самих евреев), то рвение своих еврейских сторонников в деле насаждения в стране большевистских порядков. «Не крепко ли они поучаствовали в разгроме религии, культуры, интеллигенции и многомиллионного крестьянства?» Тут требуется одно уточнение: религии, культуры и интеллигенции не только нееврейской, но и своей собственной.
Особенно возмутила Солженицына категорическая декларация одного из современных авторов-евреев, будто нет способа культивирования среди евреев лояльной советской элиты. «Да Боже, этот способ работал безотказно 30 лет, а потом заел. <...> И почему же 30-40 лет глаза множества евреев на суть советского строя не открывались - а теперь открылись? Что их открыло? Да вот именно в значительной мере то, что эта власть повернулась и сама стала теснить евреев. Не только из правящих и командных сфер, но из культурных и научных институтов».
Так! Конечно, кто-то открыл глаза пораньше, другие их и не закрывали (да где они все?). Но, думается, массовая динамика изменения отношения евреев к советской власти представлена Солженицыным адекватно. Именно возобновившиеся преследования, восстановленная (и увеличенная по сравнению с «проклятым царским режимом») процентная норма при поступлении в высшие учебные заведения, изгнания с более или менее ответственных должностей - привели многих лояльных и даже приязненных к существующему строю евреев к пересмотру их позиции. Еврейский Вопрос, как Ванька-встанька, завалившись на время в одной, отдельно взятой стране, вновь встрепенулся и занял свое «нормальное» положение. Антисемиты завели свою старую песню «Бей жидов, спасай Россию!», а евреи, как тот же Эренбург, не раз поминаемый Солженицыным во второй части «Двухсот лет...», начали освобождаться от кратковременной иллюзии, будто очистка человеческого сознания от вековых предрассудков при наличии на то доброй воли - плевое дело (см. «Люди, годы, жизнь», книга шестая, глава 15).
Об Эренбурге Солженицын отзывается с нескрываемым осуждением. Он приводит, например, такой факт: «В «Правде» 21 сентября 1948, в противовес триумфальному приезду Голды Меир (в качестве первого посла Израиля в СССР; кстати, она тогда звалась Голдой Меерсон. - М.К. ), появилась большая, заказанная ему (Эренбургу. - М.К. ), статья на тему: евреи - вообще не нация и обречены на ассимиляцию». Сам Эренбург не минует этот факт в своих мемуарах (та же глава 15 шестой книги): «В сентябре 1948 года я написал для «Правды» статью о еврейском вопросе, о Палестине, об антисемитизме». И далее дает целую страницу цитат из статьи. Насчет того, что евреи - не нация, в них ничего не найдешь. Сказано только, что между евреем-тунисцем и евреем, живущим в Чикаго, мало общего. И еще: что ощущение глубокой связи между евреями различных стран родилось как результат невиданных зверств немецких фашистов. А вот сионизм автором статьи однозначно заклеймен: его, дескать, создали евреи «националисты и мистики», а Палестину заселили евреями «те идеологи человеконенавистничества, те адепты расизма, те антисемиты, которые сгоняли евреев с насиженных мест и заставляли их искать не счастья, а права на человеческое достоинство - за тридевять земель». Интересно, имел ли тут в виду Эренбург и тех идеологов человеконенавистничества, которые согнали евреев в Биробиджан?.. Во всяком случае, не оставляет сомнений приверженность писателя идее ассимиляции. Впрочем, и критикующий его Солженицын, признавая, что в XX веке «еврейство получало импульсы отшатнуться от ассимиляции» и что так же, возможно, будет продолжаться в наступившем XXI, охотно присоединяется к мнению русского еврея, предсказывающего неуничтожимость диаспоры и нерасчленимость того единства (с окружающими народами), которое она породила и в котором евреи и впредь должны жить и проявлять себя. Солженицын не уверен в осуществимости такого прогноза, но сочувствие его к такому развитию событий несомненно. «Движение - слиться с остальным человечеством до конца, вопреки жестким преградам Закона (еврейского, разумеется. - М.К. ), - кажется естественным, живым».
Но вернемся к Эренбургу, ибо и автор «Двухсот лет...» еще не раз к нему возвращается. Ужасно обвинение, бросаемое ему Солженицыным по следам расправы с еврейской интеллигенцией в августе 1952-го: «И после расстрела еврейских писателей Эренбург продолжал уверять на Западе, что они - живы, и пишут». Если это действительно так...
Еще раз Эренбург появляется на страницах солженицынской книги в связи с верноподданническим письмом, готовившимся в недрах партаппарата. Это письмо должны были подписать - и, увы, подписали! - самые известные советские евреи: писатели, ученые, музыканты.
История с письмом всплывает в беседе Солженицына с главным редактором «Московских новостей» Виктором Лошаком, состоявшейся в конце декабря 2002 года. Лошак, ссылаясь на соответствующие пассажи «Двухсот лет...», констатирует: «Десятки подписей, как вы пишете, уже были собраны. Среди них Ландау, Дунаевский, Гилельс, Ойстрах, Маршак... Однако письмо это не было публиковано». Ответ Солженицына гласит: «Это письмо в «Правду» не было опубликовано, потому что дело врачей сходило на нет, и Берия начал вести свою линию. А опубликовано оно уже сейчас, в 1997 году, в «Источнике» - Вестнике архива Президента России».
В данном эпизоде, как он изложен в самой книге, роль Эренбурга представлена неоднозначно. Он «сперва не подписывал (что значит «сперва»? Ведь и после не подписал! - М.К. ), нашел в себе смелость написать письмо Сталину». Но тут же и отмечено: «Изворотливость (в формулировках. - М.К. ) требовалась непревзойденная». И Эренбург ее проявил: «еврейской нации нет», еврейский национализм «неизбежно приводит к измене». О, Господи!
В книге выведены и другие фигуранты, чье поведение, мягко выражаясь, было несколько сервильным. К ним относятся (помимо подписавших провокаторское письмо): «топорный карикатурщик Борис Ефимов»; дипломат Евгений Гнедин, писавший в 30-х годах обманные статьи - то о том, «как гибнет западный мир, то - в опровержение западных «клевет» о каком-то якобы насильственном труде заключенных на лесоповале»; «преданный коммунистический фальсификатор академик И.И. Минц»; а вот академик Г.И. Будкер, по собственному признанию, не спал ночами и падал в обморок от напряжения, рождая, совместно со столь же самоотверженными коллегами, первую атомную бомбу для родного государства, причем происходило это в дни преследования «космополитов».
Но есть, как мне кажется, среди лиц, обвиненных Солженицыным в безудержном сотрудничестве с советской властью, и такие, к кому наш «судья» излишне пристрастен. Это, прежде всего, кинорежиссер Михаил Калик и поэт-бард Александр Галич. Калику, несправедливо названному «благополучным» (видимо, вследствие незнания его биографии), инкриминируется написанное им уже в годы второй опалы (первая, с лагерем, пришлась на сталинскую пору, причем посажен он был по обвинению в «еврейском буржуазном национализме») письмо «К русской интеллигенции». «Как будто перебыв в СССР не в слое благополучных, а годами перестрадав в угнетенных низах...» Да так и было безо всякого «как будто»!
Что касается Галича, то он и вправду долго состоял в привилегированном слое советских евреев, был преуспевающим - вполне советским - драматургом. «Но вот с начала 60-х годов совершился в Галиче поворот. Он нашел в себе мужество оставить успешную, прикормленную жизнь и «выйти на площадь»». Более того, согласен Солженицын и с тем, что песни Галича, «направленные против режима, и социально-едкие, и нравственно-требовательные», принесли «несомненную общественную пользу, раскачку общественного настроения». Так чем же ему не угодил Галич?
«Разряды человеческих характеров почти сплошь - дуралеи, чистоплюи, сво-лочи, суки... - очень уж невылазно». Но: «при таком обличительном пафосе - ни ноты собственного раскаяния, ни слова личного раскаяния нигде!» Так уж и нигде? «А «Ночной дозор» («Я открою окно, я высунусь, / Дрожь пронзит, будто сто по Цельсию!»)? А «Старательский вальсок» («И теперь, когда стали мы первыми, / Нас заела речей маята, / И под всеми словесными перлами / Проступает пятном немота»)? А «Вальс, посвященный Уставу караульной службы» («Ах, как шаг мы печатали браво, / Как легко мы прощали долги!..»)? А «Уходят друзья» («Я ведь все равно по мертвым не плачу - / Я ж не знаю, кто живой, а кто мертвый»)? А «Баллада о стариках и старухах» («Я твердил им в их мохнатые уши, /В перекурах, за сортирною дверью: / “Я такой же, как и вы, только хуже!”...»)?
И странно читать у Солженицына упрек Галичу в том, что его сатира «бессознательно или сознательно, обрушивалась на русских, на всяких Климов Петровичей и Парамоновых...» А надо было, чтобы на евреев? Но ведь тут в зеркальном отображении видим очень странную претензию критика, изрекающего директиву самому Солженицыну, чтобы тот обратил в... еврея одного из героев (в обоих смыслах этого слова) романа «В круге первом» - или, в крайнем случае, добавил в роман «равноценный по силе образ благородного самоотверженного еврея»!
В ряде мест книги автор говорит о такой категории национальной жизни, как раскаяние. Естественно, что призыв к раскаянию обращен к обеим сторонам - и к русским, и к евреям. Я уже приводил здесь концовку главы «Двадцатые годы», с цитатой из статьи современного публициста, осуждающего соплеменников-евреев за их неготовность признать свою долю вины в русской истории XX века, и солидарный комментарий Солженицына. Теперь приведу концовку еще одной главы - «В войну с Германией»:
«Констатирует в конце 80-х годов еврейская публицистка, живущая в Германии (Софья Марголина. - М.К. ): «Сегодня моральный капитал Освенцима уже растрачен». И она же год спустя: «Солидный моральный капитал, приобретенный евреями после Освенцима, кажется исчерпанным», евреи «уже не могут просто идти по старому пути претензий к миру. Ныне мир уже имеет право разговаривать с евреями, как со всеми остальными» 3 ; «борьба за права евреев не прогрессивнее борьбы за права других народов. Пора разбить зеркало и оглянуться: мы не одни в мире».
До такой достойной, великодушной самокритичности подниматься бы и русским умам в суждениях о российской истории XX века - от озверения революционного периода, через запуганное равнодушие советского, и до грабительской мерзости послесоветского. В невыносимой тяжести сознания, что в этом веке мы, русские, обрушили свою историю - через негодных правителей, но и через собственную негодность, - и в гложущей тревоге, что это, может быть, непоправимо, - увидеть и в русском опыте: не наказание ли то от Высшей Силы?»
Золотые слова! Пафос всей книги Солженицына выражен в них наиболее внятно и с неподдельной искренностью. Стоит добавить, что в этой же главе автор с большим сочувствием констатирует широкое участие советских евреев в военных действиях и партизанском движении, а также делится личным опытом соприкосновения с евреями на фронте. «Знаю среди них смельчаков (далее пофамильно перечисляет солдат и офицеров, отлично воевавших рядом с ним и под его началом. - М.К. ). Более чем реально воевал поэт Борис Слуцкий, передают его выражение: «Я весь прошит пулями»». Называет Солженицын и другие - известные и неизвестные - имена. И резюмирует: «так, вопреки расхожему представлению, число евреев в Красной армии в годы Великой Отечественной войны было пропорционально численности еврейского населения, способного поставлять солдат: пропорция евреев - участников войны в целом соответствует средней по стране».
Еще относительно раскаяния евреев за свои грехи перед русскими. В главе «Оборот обвинений на Россию» (т.е. с чекистско-большевистской власти на историческую Россию) приводятся высказывания как русофобские (Борис Хазанов: «Берегитесь рассказов о том, что в России хуже всех живут русские, пострадали в первую очередь русские»), так и... С удовлетворением отмечает писатель: «Однако перестали бы быть евреи евреями, если бы в чем-то стали все на одно лицо. Так и тут. Голоса иные тоже прозвучали. <...> К счастью для всех, и к чести для евреев - какая-то часть из них, оставаясь преданными еврейству, проняла сознанием выше обычного круга чувств, способностью охватить Историю объемно. Как радостно было их услышать! - и с тех пор не переставать слышать. Какую надежду это вселяет на будущее! При убийственной прореженности, пробитости русских рядов - нам особенно ценны их понимание и поддержка».
На этой оптимистической ноте можно было бы и закончить, но есть у меня личная причина приписать еще несколько слов. Среди тех, кого так радостно было услышать Солженицыну, упомянут кибернетик Роман Рутман, репатриировавшийся в Израиль еще в 1973 году. В нью-йоркском русском «Новом журнале» появилась его статья о начале движения за репатриацию, которую (статью) Солженицын называет очень теплой и яркой и в которой, по мнению писателя, проявлено «отчетливое тепло к России. Статья и называлась выразительно: “Уходящему - поклон, остающемуся - братство”». Это название - строчка из ныне широко известного стихотворения Бориса Чичибабина «Дай вам Бог с корней до крон..» (1971). Солженицын не фиксирует авторство Чичибабина, но, конечно же, не по незнанию. Заключаю так на основании личного письма, полученного мною от писателя в 1997 году. В нем среди прочего сказано: «Статью о Чичибабине 4 (которого люблю) читал». Соединяя эти два факта, нельзя не видеть, что Чичибабина Солженицын любит, в частности, и за его юдофильство.
2 Та самая «мадам Кускова», которую Маяковский в пародийном виде вывел в четвертой главе своей «Октябрьской поэмы».
3 Никогда мир не разговаривал с евреями, как со всеми остальными! И сегодня, спустя десять лет после появления сочувственно цитируемой Солженицыным публикации, мир - главным образом Европа (не говоря уже о мусульманской части мира) - разговаривает с евреями на языке судей Дрейфуса и обвинителей Бейлиса, а кое-кто - и на языке «Майн Кампф».
4 Вероятно, имеется в виду моя рецензия на книгу стихов «82 сонета и 28 стихотворений о любви», опубликованная в «Новом мире» (1995, № 10).
Воспоминания и впечатления Александра Пыльцына
Прежде всего, несколько слов к читателю. Взявшись за эту тему, я рассчитывал ограничить себя небольшим эссе, поскольку с одиозным именем «Солженицын» у меня связаны личные фронтовые воспоминания и впечатления, ставшие поводом для размышлений. Однако, круг явлений, происходящих вокруг этого имени, оказался настолько широк, и внедрение «солженицызма» в систему среднего и высшего образования в постсоветской России вызывает у нас, фронтовиков Великой Отечественной, серьёзные опасения…
Современные политиканы любят кричать, что Советский Союз, по их мнению, был одним большим «Гулагом». Но все, кто смотрят наши телепередачи сегодня, не могут отрешиться от мысли, что именно теперь все мы либо за решёткой КПЗ, либо в зале суда, либо ещё хуже - посреди бандитских разборок. Поскольку телевидение теперь вещает и на весь мир, мы создаём однозначное мнение за рубежом о русских, как о народе диком, бандитском, далёком от цивилизации.
В первую очередь наши опасения связаны с тем, что процесс воспитания патриотизма у новых поколений направлен по ложному, именно соЛЖЕницынскому направлению. Ещё более опасно то, что переиначивание нашей российской истории пагубно сказывается на формировании морально-нравственных качеств общества. Предлагаемые читателю мои материалы, конечно же, не исчерпывают эту тему и не претендуют на истину в последней инстанции.
Но если прочитавшие их смогут преодолеть создаваемый искусственно образ «правдивого гулаговеда» и его извращённого представления о советском периоде истории нашей Родины, то буду считать свою работу небесполезной.
1. С чего начинается… Солженицын в памяти современников и в российской истории
Появление Солженицына в моей памяти «застолбилось» ещё в годы Великой Отечественной. В марте 1945 года после тяжёлых боёв за немецкий Штаргард (ныне польский Старгард-Щециньски) нас, командиров рот штрафбата, помню, поразило одно сообщение батальонного «особиста» Глухова. Он рассказал, что некоторое время назад в войсках был разоблачён, и по распоряжению большого начальника из «Смерша», арестован командир артиллерийской батареи. По его словам, этот артиллерист создавал антисоветскую группу или партию, и собирался после победы организовать свержение Сталина.Тогда, в начале весны 1945 года, в ответ нашему «смершевцу-особисту» я сказал, что хотел бы взять в свою роту, если его направят в штрафбат. Мои штрафники смогли бы вытряхнуть из него эту дурь. На что Глухов сказал, что, во-первых, этот артиллерист политический арестованный, и его от фронта увезут подальше, чтобы он не сбежал к противнику,. Во-вторых, чтобы размотать все верёвочки и связи его с этой группой, органам следует повозиться с ним и его «друзьями». И тогда стало понятно, что этот артиллерист сознательно создал ситуацию, повлекшую за собой обязательный арест и удаление с фронта, то есть это было фактическое злостное дезертирство с поля боя.
В нашем офицерском штрафбате практически не было штрафников-дезертиров. Были офицеры, опоздавшие из отпуска не на день-два, а на более значительные сроки. Были даже не вовремя возвратившиеся из госпиталей после ранений, которым вменяли в вину тоже какую-то форму дезертирства (оправдано или нет - другой вопрос). Но откровенных дезертиров с поля боя среди офицеров просто не знаю, и к такого рода преступлениям было отношение однозначное: омерзительное, как к с самому низкому человеческому поступку на войне. Примерно такое же, если не более мерзкое преступление, по нашему мнению, совершил тогда этот артиллерийский капитан.
Я не обратил тогда внимания или просто не запомнил, назвал ли особист фамилию этого командира батареи, но все мы были удивлены, как это боевой офицер-артиллерист, задумал такое злое дело перед нашей недалёкой Победой, к которой мы уверенно идём именно под руководством Сталина. Да я уже и в своих стихах, написанных ещё в декабре 1944 года, считал, что Победа придёт «весной, в начале мая». Не обратили мы тогда внимание на то, что это был не такой уж боевой офицер, «из батареи звуковой разведки», «батареи без пушек». Потом за делами фронтовыми-боевыми забылось вообще это сообщение «особиста».
Вспомнил о нём я лишь после того, как прочёл в ноябре-декабре 1962 года в «Новом Мире» нашумевший «Один день Ивана Денисовича». Я узнал, что написал его «писатель» Солженицын, что он был на фронте командиром артбатареи, и арестован за 3 месяца до победы. Это показалось мне чем-то знакомым, т.н. «дежавю», будто что-то похожее со мной уже случалось. Потом мне чётко вспомнилась та история, которую поведал наш батальонный «особист» старший лейтенант Глухов. И чем больше я узнавал об этом Солженицыне, тем больше был уверен, что тогда речь шла именно о нём.
С первой публикации «… Ивана Денисовича», подпольных и зарубежных, а потом и массовых изданий его «Архипелага...» в постсоветской России, и до сегодняшнего дня личность и творчество Александра Исаевича Солженицына вызывают незатихающие споры. Да и отношение к нему, как к «новому гению» русской литературы, истории, морали и нравственности далеко не однозначно.
Цель этих моих размышлений о Солженицыне - раскрыть его как человека непорядочного, подлого, лживого, хотя многие из упомянутых мною фактов уже давно обнародованы и не будут для читателя сенсацией. Однако слишком очевидно, что в наше время общество упорно пичкают дикими солженицынскими мифами, основанными на беспардонной лжи и невежестве. И сегодня, когда власть имущие чиновники от истории, культуры и образования стараются всеми способами реанимировать «величие» отвергнутого советской общественностью и властью «гения», главное - помочь освободиться от мифов, искусственно создаваемых вокруг «великого пророка». Может, эти мои рассуждения помогут заблудившимся в оценках значимости этого человека, объективно оценить его личность и тот огромный вред, нанесённый им отечественной истории и литературе, русскому народу и России вообще.
12 декабря 2013 года Президент Владимир Путин огласил ежегодное Послание Федеральному Собранию. Пожалуй, одним из давно не упоминаемых никакими представителями современной российской власти тезисов, было о воссоздании системы статистической оценки уровня технологического состояния отраслей экономики.
«В советский период такая система работала- ликвидирована, ничего на этой базе не создано, нужно ее воссоздать» - сказал Президент.
Да, в советское время работали многие системы, например социального обеспечения, образования, здравоохранения и многие другие. Пусть не самым идеальным образом, но надёжно работала система борьбы с коррупцией. Ныне же, кроме громогласных заявлений и деклараций о том, что эта беда продолжает разъедать страну, решительных мер не принимается, что видно хотя бы по Сердюкову, Васильевой и многим другим.
Всем давно ясно, что очень многие достижения и позиции социалистической Родины, каким был СССР, незаслуженно отвергнуты, забыты, оболганы. Помнится, сколько небылиц нагорожено на советскую систему планирования, на исторические пятилетки. Все пытались закрыть лозунгом «рынок сам расставит нужные приоритеты», «рынок всё отрегулирует». А ныне, через 20 лет, опомнились, поняли, что без плановой системы развития страны не прожить. И тогда стали прибегать к непонятным «дорожным картам» по американскому образцу. После тотального разрушения Сердюковым военно-научной основы системы подготовки офицерских кадров, с большими потерями уже пытаемся восстанавливать её, возвращаясь даже к воссозданию военных кафедр в вузах. Так, вероятнее всего когда-то произойдёт и с объективной оценкой Солженицына. Но, судя по всему, будет это ещё очень не скоро, да может быть и поздно.
Ведь пока в постсоветской России ещё не признали даже очевидную истину о лучшей в мире советской системе образования и науки. В них внедряются чуждые нашему обществу «Болонская система» и «ЕГЭ». Государственная система здравоохранения заменена коммерциализированной «медицинской услугой» больниц и поликлиник, продолжается их дальнейшее разрушение и распродажа,
Уж как только не обвиняли и советскую власть, и общественность в гонениях «борца за правду», в преследовании «инакомыслящего гения», как только не насаждают насильственно «со-лже-ницызм» новым поколениям чуть ли не с дошкольного возраста. А на самом деле, если чуть поменять буквы в этом новом «… изме», получается всего только «со-ЛЖЕ-цинизм», именно ЦИНИЗМ в полном смысле этого слова.
Придет, однако, время, когда признаем, что и оценка личности и творчества Солженицына в советское время «работала правильно» и «её нужно воссоздать». Да разве можно будет воссоздать загубленную мораль и нравственность многих поколений, в умы которых будет вдолблено солженицынское понятие этих качеств личности.
Ещё во время холодной войны против СССР были использованы в разной степени броские, эффективные фразы, лозунги, концентрирующие внимание масс, отвлекающие их от сути насущных явлений. Так наш язык стал изобиловать банально-либеральными фразами или словами «права человека», «свобода слова», «демократизация», «свободный рынок». А так же «оттепель», «разрядка», «сталинизм», «больше гласности - больше социализма», «перестройка», «новое мышление», «социализм с человеческим лицом» и несть им числа.
Особняком стоит «слоган», созданный Солженицыным, и выпущенный в эфир при колоссальной информационной поддержке Запада, а теперь и самой России - это «Архипелаг ГУЛАГ».
Создав его, Солженицын сознательно внес личный вклад в разрушение великого государства СССР, сопоставимый с оружием массового поражения. Катастрофическое разрушение СССР принесло страдания, войны и преждевременную смерть десяткам миллионов бывших советских граждан. Эти массовые жертвы в значительной мере и на совести Солженицына, ставшего нобелевским лауреатом именно за это, а не за «литературные подвиги», что бы он ни утверждал при жизни, и что бы о нём ни говорили его «благодетели» сегодня.
Очень многие здравомыслящие люди отмечают, что в самой Германии, например, не нашлось немца-автора, заклеймившего на весь мир немцев за злодеяния Второй мировой войны. В Америке не оказалось никого, кто призвал бы янки покаяться за множество жесточайших эпизодов массового уничтожения людей и химическую войну в Юго-Восточной Азии, и хладнокровное убийство уже миллионов беззащитных в Африке, Ближнем Востоке, не говоря уже об атомной бомбардировке Японии. Нет автора, проклявшего всех китайцев, Мао Цзе Дуна и Китай за десятки миллионов жертв культурной революции. Зато в России нашёлся автор из русских, проклявший свою страну за социализм, за развитие и обогащение страны и её народов, требовавший покаяния за Великую Победу над мировым злом - гитлеровским фашизмом. Мало того - призывавший силы международного империализма практически уничтожить свою родину только потому, что в ней прочно утвердилась власть, не угодная ему, Солженицыну и таким же отщепенцам!
2. «Критика Сталина» или продуманное дезертирство с фронта
Все события, касающиеся Солженицына, связанные и с моим фронтовым, штрафбатовским прошлым, и с современными публикациями, искажающими правду об этом недостойном такой похвалы человеке, каким оказался бывший фронтовик Солженицын, побудили меня ознакомиться с объективной литературой о его жизни и предательстве. В том числе я с большим интересом прочёл книгу первой жены Солженицына, Натальи Решетовской «В споре со временем» (Издательство АПН, Москва, 1975).Представила большой интерес и подробно документированная работа чешского писателя Томаша Ржезача, проживавшего некоторое время в Швейцарии и принадлежавшего к узкому кругу друзей А. И. Солженицына. Более того, он был вначале его поклонником и даже сотрудником. Но не только в Швейцарии после появления на свет опусов Солженицына, многие его друзья выразили свое возмущение и навсегда отвернулись от него. Соприкоснувшись близко с ним и с его нравственными позициями, достаточно хорошо узнав писателя, и Ржезач, по возвращении к себе на родину, занялся осмыслением противоречий, обнаруженных при непосредственном общении с Солженицыным и знакомстве с его жизнью. Большой фактический материал автор почерпнул во время своих туристических поездок по Советскому Союзу, где познакомился и с бывшими друзьями и помощниками Солженицына, вовлечёнными им в свою нечистую политическую игру. Все это позволило Томашу Ржезачу взяться за написание большой, аргументированный, с опорой на подлинные документы книги «Спираль измены Солженицына» (Авторизованный перевод с чешского, Издательство «ПРОГРЕСС», Москва 1978).
Эта книга отличается прежде всего, строгой объективностью. Солженицынским вымыслам автор противопоставляет неопровержимые и документально подтвержденные факты, что особенно ценно.
Уже после «отсидки» Солженицына и после выхода в свет его «произведений», мне, да и большинству исследователей «феномена» «Узника ГУЛАГа», стало ясно: Солженицын знал, что за подобную деятельность не только в армии во время боевых действий, но любого ждут трибунал и расстрел, если только… не найти какого-нибудь выхода. И выход им был найден, даже заранее определён. Солженицын продумал свои планы до тонкостей, и делает всё, чтобы на его след вышли как можно скорее. Видимо, вырисовывалась у него нежелательная перспектива перевода из батареи звуковой разведки, всю войну благополучно дислоцировавшейся в достаточном отдалении от переднего края, в подразделения огневые, где вероятность попасть под обстрел противника во много раз выше. Не иначе, как взыграла в человеке банальная трусость и осознание возможной гибели его, Солженицына, ещё не ставшего «Великой Знаменитостью», вторым «Львом Толстым», что так назойливо мерещилось ему уже много лет ещё со студенческой скамьи. Единственной возможностью спасения было любыми способами надёжно покинуть ставший так опасным для «драгоценной жизни будущего гения» фронт.
И вот, чтобы создать впечатление не одиночки-антисоветчика, а некоего военно-политического заговора, Солженицын вовлекает в свои эпистолярные сети как можно больше людей, даже не подозревающих истинных целей бесед со словоохотливым попутчиком или содержания его писем.
На фронте, по крайней мере, весь офицерский состав хорошо знал, что все письма с фронта (да и на фронт) жёстко и 100-процентно контролируются огромным аппаратом военной цензуры. Мы, например, даже наловчились сквозь цензурные рогатки сообщать родным в письмах названия городов, которые проходили с боями, упоминая в письмах лишь имена «знакомых», кому или от кого предавали приветы, и по начальным буквам этих имён наши адресаты узнавали эту тайную информацию.
Итак: Солженицын точно знает (не может не знать!), что письма подвергаются цензуре, и все-таки не просто «критикует Сталина», как говорит сам Солженицын, а в своих многочисленных корреспонденциях пишет о том, как после победы он будет вести «войну после войны». И при этом хранит у себя в полевой сумке «Резолюцию N 1», где сказано: «Наша задача такая: определение момента перехода к действию и нанесение решительного удара по послевоенной реакционной идеологической надстройке». И далее: «Выполнение всех этих задач невозможно без организации. Следует выяснить, с кем из активных строителей социализма, как и когда найти общий язык». Даже без всякого преувеличения это был документ, подтверждающий зарождение вроде бы хорошо организованной враждебной группы. Это не просто «антисталинские ругательства», и даже не просто критика Верховного каким-то младшим офицером-артиллеристом. Это на уровне того, как если бы командир батареи хранил у себя Майн Кампф и портрет Гитлера. Николай Виткевич, его адресат, подставленный своим школьным другом, как сообщник, признает: «Ну, не на что обижаться, что дали срок. (Из интервью 1992 г.). Хотя, чего уж соображать: 26-летнему капитану: не просто ругать Верховного Главнокомандующего во время войны! Да еще в военной переписке, заведомо подвергаемой цензурному контролю».
В связи с этим я вспоминаю осенние бои 1944 года на Наревском плацдарме в Польше в составе 65 армии генерала Батова. Из боевой обстановки и из чётко проявившегося отношения к штрафникам в этой армии, нам стало ясно, да и штрафники это поняли, что новый комбат Батурин и старшие начальники, в подчинение которых мы переданы на время боёв, не выпустят отсюда ни одного штрафника, который не искупит вину свою кровью или жизнью. Тогда мы стали терять своих боевых товарищей, в том числе и тех, кого считали заслужившими освобождения за боевые подвиги, без ранений, как это было нормальным при комбате Осипове в составе армии генерала Горбатова. Но так считали мы, а вот и Батурин, и видимо генерал Батов со своими комдивами, как оказалось, были другого мнения. И вот тогда мне мой взводный принёс листок бумаги, на котором были стихи:
Нас с Батуриным-комбатом
Взял к себе на Нарев Батов.
Ну, а это не Горбатов,
Не жалел бойцов штрафбата.
Для него штрафник - портянка.
Он только тех освобождал,
Кто ранен, кто погиб под танком,
А остальных на пули гнал!
Честно говоря, я опасался, что этот стишок может дойти до комбата, а то и до самого командарма Батова, и тогда найдут авторов, и не сдобровать им, а может и кому то из нас, их командиров. Потому и уничтожил этот стих, прочно, однако, засевший в моей памяти. Ведь каждому понятно, что вообще в армии, тем более, на фронте, да ещё в среде штрафников, какая либо критика, не говоря об обвинении начальников, могли закончиться плачевно. На фронте, где «Приказ начальника - закон для подчинённого» стократ строже, чем в армии вообще, подчинённые никак не могут быть в оппозиции к начальнику, критиканами его приказов и даже личности, тем более, к начальнику высокого ранга.
Офицер Солженицын не просто «критиковал» Сталина, письма его носили явно организационный антисоветский характер, документальное свидетельство подготовки свержения советской власти. Это был «хитрый ход», чтобы продуманно попасть по «политической» 58-й статье УК РСФСР, и одновременно избежать, самого худшего - попасть в штрафбат (туда по 58-й не посылали!). И уж, конечно исключить возможный перевод с благополучной батареи звуковой разведки хоть и из ближнего, но всё-таки тыла, на огневую батарею с настоящими орудиями и настоящей линией огня. Подобная рокировка практиковалась на фронте нередко, а в последние полгода войны - особенно. В то время и к нам в штрафбат направлялись офицеры на командные должности из войск второго эшелона. А от Солженицына в это время открытым текстом на разные полевые почты и в города страны летят письма «об организации, которая после войны займётся низвержением Сталина и советской власти». Их получают и школьные друзья, и случайный попутчик, и даже собственная жена. Со стороны создаётся устойчивое впечатление широкой, разветвлённой сети антисталинистов-антисоветчиков.
Со слов Кирилла. Симоняна, Николая Виткевича, школьных друзей, а теперь главных адресатов Солженицына, можно узнать, что на следствии он «заложил» буквально их всех. Виткевича, который якобы «с 1940 г. систематически вел антисоветскую агитацию», и такого же близкого друга Симоняна, который, оказывается, «враг народа, непонятно почему разгуливающий на свободе». Даже свою жену Наталью Решетовскую, школьную подругу Лидию Ежерец и случайного попутчика в поезде, некоего моряка Власова указал, как своих сообщников, членов «оперативной пятёрки».
Правда, поначалу посадили только прямого адресата - Виткевича. Когда много лет спустя профессор Симонян выступил с открытой критикой взглядов Солженицына, тот в ответ публично посожалел: «Ах, жаль, что тебя тогда не посадили! Сколько ты потерял». В интервью 1992 г. Солженицын даже выразил сожаление, что «следствие провели так халатно, ибо при желании (он был даже уверен), что по его записям «можно было всех рассчитать, можно еще 5 человек посадить шутя, из нашего дивизиона. А следователю лень читать, дураку».
Теперь, работая над этим материалом, мне удалось узнать, что тогда 2 февраля 1945 года, действительно последовало телеграфное распоряжение заместителя начальника Главного управления контрразведки «Смерш» наркомата обороны СССР генерал-лейтенанта Бабича. В нём предписывалось немедленно арестовать командира батареи звуковой разведки капитана Солженицына и доставить его в Москву. 3 февраля армейской контрразведкой начато следственное дело, и 9 февраля Солженицын в помещении штаба дивизиона был арестован, а затем отправлен согласно предписанию. Как говорят «что и требовалось доказать»: цель покинуть фронт достигнута, драгоценная жизнь «гения» вне опасности. Скоро война будет окончена, а по этому долгожданному событию грянет массовая амнистия, нужно только приспособиться к новым условиям.
Следствие по делу Солженицына длилось почти полгода. Ведь нужно же было узнать, действительно ли младший офицер Солженицын был предводителем созданной им антисоветской военной организации. Когда стало всё ясно, 27 июля 1945 года бывший капитан Советской Армии Александр Солженицын приговорён Особым совещанием по статье 58, пункт 10, часть 2, и пункт 11 той же статьи Уголовного Кодекса РСФСР к 8 годам исправительно-трудовых лагерей (всего только 8 лет за такое!) и вечной ссылке по окончании срока заключения. Почему такой малый по тому времени срок заключения, мы постараемся объяснить.
Г.П Семенова
А.И. Солженицын принадлежит к тому нередкому в отечественной литературе типу писателей, для кого Слово равно Делу, Нравственность состоит в Правде, а политика - вовсе и не политика, а «сама жизнь». По мнению некоторых критиков, это-то и уничтожает «мистическую сущность искусства», порождая перекос на политическое плечо в ущерб художественному. В лучшем случае такие критики говорят: «При однозначном восхищении Солженицыным-человеком я, к сожалению, невысоко ставлю Солженицына-художника». Впрочем, есть и другие, что «невысоко ставят» его и как мыслителя, как знатока российской истории и современной жизни и даже как знатока русского языка. Это не значит, будто на отношении к этому писателю подтверждается известное русское правило: в отечестве пророка нет. Как раз именно он и выдвигается многими на такую роль, причём, кое-кто считает, что время для критики А. Солженицына не наступило и, возможно, не наступит. Вот так, по-русски, не знает сердце середины: или-или...
Известно, что одна из постоянных тревог писателя - о том, почему люди часто не понимают друг друга, почему не каждое слово - художественное или публицистическое - доходит до сознания и сердца, почему иные слова уходят, не оставив следа. Отчасти он сам ответил на этот вопрос, сказав в «Нобелевской речи» (1970), что правдивое слово не должно быть безликим, «без вкуса, без цвета, без запаха», ему пристало соответствовать национальному духу, этой праоснове языка.
В поиске и отборе таких слов, в изменении словообразовательных элементов у наиболее «затёртых» из них - одна из немаловажных составляющих его творчества, его поэтики. Размышляя, к примеру, о тех, кто «самозабвенно или опрометчиво» называет себя интеллигенцией, по существу ею не являясь, он предлагает называть их «образованщиной», что, с его точки зрения, «в духе русского языка и верно по смыслу» («Образованщина»). Употребительный вариант «интеллигентщина» был отвергнут, вероятно, потому, что смысл исходного понятия «интеллигентность» шире, чем смысл, заключённый в понятии «образованность», и, значит, существительное «интеллигентщина» не выразило бы того, что хотел сказать автор.
При установке на гармоничное, адекватное языковое оформление всякого содержания А. Солженицын порой использует разный шрифт, чтобы выделить наиболее значимые, ключевые понятия и термины, связанные с темой, специфические слова и выражения, комментируя и объясняя их или в специальных примечаниях или непосредственно в тексте. «Ах, доброе русское слово - острог \ - читаем в его книге «Архипелаг Гулаг» (часть 1, глава 12), - и крепкое-то какое! и сколочено как! В нём, кажется, - сама крепость этих стен, из которых не вырвешься. И всё тут стянуто в этих шести звуках - и строгость, и острога, и острота (ежовая острота, когда иглами в морду, когда мёрзлой роже метель в глаза, острота затёсанных кольев предзонника и опять же проволоки колючей острота), и осторожность (арестантская) где-то рядышком тут прилегает, - а рог? Да рог прямо торчит, выпирает! прямо в нас и наставлен». Оценив слово как «доброе», писатель имеет в виду то, что оно добротно, хорошо, удачно сделано.
А вот то, что язык наш называет «добром» предметы быта, одежду, домашнюю утварь, ему представляется странным (см. «Матрёнин двор»). Странно, однако, другое - что при столь внимательном отношении к слову писатель в данном случае не почувствовал едва ли не на поверхности лежащей предопределённости этого просторечного словоупотребления народными этическими ценностями, бережным отношением к тому необходимому, что служит человеку в его повседневной жизни и что наживается не вдруг и не лёгким трудом. Чтобы выразить ироническое отношение к накопительству, скопидомству, повышенному интересу к вещам, народ пользуется другими словами - такими, как «тряпки», «барахло». Может быть, в этом случае писатель и сам оказался в каком-то смысле во власти тех «штампов принудительного мышления», которые, по его наблюдениям, так мешают людям понять друг друга, и захотел быть «нравственнее» веками складывавшихся и утверждавшихся элементов народной этики.
А вот темпераментная характеристика слова «массовизация» и обозначаемого им процесса как «мерзкого» таких сомнений не вызывает, хотя можно было бы сказать, что и здесь форма и содержание удивительным образом совпали: каков процесс, таково и слово, казённое, внеэстетичное, наскоро слепленное по канонам революционного новояза. Но А. Солженицын прав в том, что долгие годы такой массовизации из многих голов «выбили... всё индивидуальное и всё фольклорное, натолкали штампованного, растоптали и замусорили русский язык», наводнили его выспренними идеологизированными клише, проникшими в речь даже наиболее образованных и думающих представителей общества, вынужденно или привычно использовавших этот «подручный, невыразительный политический язык» («Образованщина»).
Феномен солженицынского «Одного дня из жизни Ивана Денисовича» - в нерасторжимости правдивого содержания и правдивого языка, которые в начале шестидесятых годов шли «вперерез» привычным политическим догмам, расхожим эстетическим штампам и моральным табу: никому не известный автор ошеломившего современников произведения выбрал для себя свободу «в устроении... собственного языка и духовного мира» (Вопросы литературы. 1991. № 4. С. 16). Тогда для многих стали событием не только герой и тема рассказа, но и язык, которым он был написан: в него «окунались с головой, дочитывали фразу - и нередко возвращались к её началу. Это был тот самый великий и могучий, и притом свободный, язык, с детства внятный, а позже всё более и более вытесняемый речезаменителями учебников, газет, докладов» (Новый мир. 1990. № 4. С. 243). Тогда А. Солженицын «не просто сказал правду, он создал язык, в котором нуждалось время - и произошла переориентация всей литературы, воспользовавшейся этим языком» (Новый мир. 1990. № 1. С. 243). Этот язык был ориентирован на стихию той устной речи, которую писатель слышал в «гуще народной», где, по его наблюдениям, ещё сохранилось «невыжженное, невытоптанное» массовизацией («Образованщина»).
Как известно, на основе аналитической проработки существующих словарей русского языка, а также лучших образцов отечественной литературы и всего слышанного «в разных местах... из коренной струи языка» А. Солженицын составил «Русский словарь языкового расширения», цель которого видел в том, чтобы послужить отечественной культуре, «восполнить иссушительное обеднение русского языка и всеобщее падение чутья к нему» («Объяснения» к «Русскому словарю...»).
Конечно, суть этой работы не в том, как это представляется некоторым лингвистам, чтобы попытаться вернуть современников к прошлому языковому сознанию. Не о замене иностранного слова «калоши» на русское «мокроступы», как предлагали задолго до него ревнители чистоты русского языка, идёт у него речь. И не о замене широкоупотребительной лексики забытыми или почти забытыми словами, собранными им: «зрятина» вместо «напраслины», «смехословие» вместо «иронизирования», «тщесловие» вместо «суесловия», «женобесие» вместо «женолюбия», «школить» вместо «воспитывать» или, может быть, «ругать», «звёздохват» вместо «хватающий звёзды с неба», «авосьничать» вместо «делать что-нибудь на авось» и т.д. Собранные слова предлагаются им лишь в качестве возможных синонимов к распространённым на том основании, что содержат дополнительные смысловые или экспрессивные оттенки. Подобно тому как исторически и философски творчество А. Солженицына нацелено на восстановление не вообще прежних порядков, а именно «дееспособных норм прежней российской жизни» (Вопросы литературы. 1991. № 1. С. 193), так и с лингвоэстетической точки зрения его словарь и писательский труд движимы стремлением вернуть в речевой обиход соотечественников, в русскую литературу из запасников языка «ещё вполне гибкие, таящие в себе богатое движение слова», которые могут найти применение, обогатить современную речь, выразить содержание, может быть, в должной мере невыразимое известными языковыми средствами.
Показательно, что сам А. Солженицын смог, как он считает, «вполне уместно» использовать в собственных произведениях лишь пятьсот лексических единиц из своего Словаря. Такой же осторожности в словоупотреблении он ждёт и от собратьев по перу, не приемля «языковых разухабств», когда литератор стремится «не в лад, не в уровень к предмету рассмотрения, не к задуманной высоте открытий напихать в текст грубых выражений, не слыша фальши собственного голоса» («...Колеблет твой треножник»). Несомненный образец такой безвкусицы для А. Солженицына - лагерный жаргон в эссе А. Терца (А. Синявского) «Прогулки с Пушкиным»: «насобачившийся хилять в рифму» и т.п. Со свойственной ему категоричностью он обвиняет уже не только этого автора, а отечественную эмиграцию вообще в стремлении «развалить именно то, что в русской литературе было высоко и чисто». «Распущенная и больная своей распущенностью, до ломки граней достойности, с удушающими порциями кривляний, она, - пишет А. Солженицын, - силится представить всеиронию, игру в вольность самодостаточным Новым Словом, - часто скрывая за ними бесплодие, вспышки несущественности, переигрывание пустоты» (Там же). Разумеется, это не может быть отнесено ко всей русскоязычной эмигрантской литературе, которая в лучших своих образцах немало сделала и для славы российской словесности, и для сохранения русского языка. И «Прогулки с Пушкиным» тоже никак не исчерпываются оценкой А. Солженицына. Но неистовство - в русском духе.
Не это ли неистовство порой мешает и самому А. Солженицыну в его работе над словом? И не проигрывают ли в таком случае его собственные тексты от того, что после первых публикаций на родине профессионально их, видимо, никто уже не редактировал, а в отечественных изданиях последних лет неприкасаемой оказалась даже его орфография: «девчёнка» («Раковый корпус»), «мьюзикал» («Нобелевская речь»), «мятель» («Архипелаг Гулаг»), «семячки» («Бодался телёнок с дубом») и др.? «Один день Ивана Денисовича», может быть, лучшее художественное произведение А. Солженицына, только выиграло от того, что, не уступив в главном - в подлинности характера и языка, - автор согласился «реже употреблять к конвойным слово «попки»... пореже - «гад» и «гады» о начальстве; сначала этих слов в тексте было «густовато»«, - признаётся он в «Очерках литературной жизни». Вот так же густовато бывает на некоторых страницах других его произведений от нарочитых языковых исканий, заставляющих читателя, как сказал бы сам Александр Исаевич, то и дело «упинаться», отвлекаясь от содержания, теряя остроту восприятия.
Возможно, к числу подобных неудач следует отнести такие словоупотребления писателя, как «обиходчивый Макс» («В круге первом»), что в контексте означает «обходительный», но по форме тяготеет к значению причастия «обихаживающий»; в выражении «нагуживает в душу нам» («Нобелевская речь») глагол смущает той же нечеткостью смысловой ориентации - «гужевой», «гадить»?.. Интересен, свеж, ритмически и даже по смыслу оправдан последний глагол в предложении об острогах: «... стало это всё опять подниматься, сужаться, строжеть, крожеть» («Архипелаг Гулаг»), напоминающем знаменитые цветаевские словесные эскапады, но взятый отдельно, без контекста, этот же глагол становится совершенно непонятным («раж», «рожа»?..). Вызывают сомнение и некоторые словообразования вроде «травы вокруг сочают после дождя» («Дыхание»), хотя ни один из «правильных» оборотов (источают аромат, распространяют запах, сочатся влагой и т.д.) - а писателю, к тому же, нужно только одно слово - не передал бы всей информации, обеднил прекрасную и живую картину, ибо травы после |дождя в самом деле не только пахнут свежестью, но ещё и, напоенные влагой, полнятся ею, дышат, роняют избыток, испаряют вовне, дымятся... Впрочем, при такой страстной увлечённости языкотворчеством и при таком абсолютном неприятии «расхожего языка», «расхожих понятий», издержки и передержки - воспользуемся его словом - «необминуемы»; к тому же их в произведениях А. Солженицына всё-таки куда меньше, чем находок.
Выпалывая из своих текстов приевшиеся формы, писатель не только борется со штампами, но часто уточняет или утяжеляет смысл, делает слово более значимым и содержательно, и эмоционально. При этом используемые им приёмы весьма разнообразны. Так, разговорные, просторечные слова продуктивно работают в языке не только героев, но и самого А. Солженицына. В одних случаях они употребляются, чтобы разнообразить, оживить речь, избавить её от повторений, как, например, глагол «пособить» наряду с нейтральным «помочь» в «Нобелевской речи»; в других - фонетико-грамматические просторечия, включённые в авторскую речь, становятся средством дополнительной характеристики персонажей, как «выпимши» и «для прилики» в «Пасхальном крестном ходе»; в третьих - просторечие, например, «роженые» должно нейтрализовать неуместное в контексте названного рассказа высокое звучание слова «рождённые». Попробуем в этом же рассказе вернуть на место «законный» глагол «обступили» или «окружили», и тотчас исчезнет эффект слова-находки, и упростится, обеднится смысл: «Девки в брюках со свечками и парни с папиросами в зубах, в кепках и в расстёгнутых плащах... плотно обстали и смотрят зрелище, какого за деньги нигде не увидишь». Этим целям служит и глагол «одерзел», употреблённый вместо «осмелел» («Бодался телёнок...»). При этом А. Солженицын по обыкновению строго следит за уместностью употребляемых слов: девчонки в брюках «перетявкиваются» в церкви со старухами («Пасхальный крестный ход»), а вот врач Гангарт и медсестра Зоя в присутствии неравнодушного к обеим Костоглотова - «перерекнулись». Оба глагола несут на себе печать авторского отношения к героям, авторской оценки - в этом ещё один немаловажный смысл производимых писателем замен.
Чтобы разъять привычный штамп, писатель то вместо нейтральных слов использует сниженные, скажем, «ухватки», а не «способы» или «приёмы» («Пасхальный крестный ход»); то вводит неожиданные, неизбитые определения, вроде «смутьянского Ленинграда» («В круге первом»), «раскалённого часа» («Нобелевская речь»); то соединяет слова, не очень подходящие с точки зрения нормативного употребления: «вперерез марксизму» («На возврате дыхания и сознания»), «бойкий оценщик» - о литераторе-критике («...Колеблет твой треножник»), «зудело ли... оптимистам» (Там же); то в сложном слове заменяет одну из частей или меняет их местами - «немоглухой» («Матрёнин двор»), «средолетний старик» («Раковый корпус»), «печалославная советская «Литературная энциклопедия»« («...Колеблет твой треножник»), «хвалословили тирана» («В круге первом»), «политические мимобежные нужды» («Нобелевская речь»), «простогубые» («Пасхальный крестный ход») и т.д.
Иногда, заменив в слове корень, А. Солженицын достигает иронического эффекта, шаржирует называемый предмет или лицо, например, когда называет автора упоминавшегося выше эссе о Пушкине «язвеистом», а «трибунальцев» - «истолюбивыми» («Архипелаг Гулаг»). В других случаях этот же приём используется для противоположных целей - чтобы явление «облагородить»; сказать о любимом герое, что он «окрысился», конечно же, язык не повернётся даже и у А. Солженицына, хотя суть всё же в том, что «оклычился» действительно ближе к характеру и состоянию Костоглотова; «окрыситься» в соответствии с концепцией романа мог бы, пожалуй, Русанов («Раковый корпус»). Наконец, замена привычного корня или образование нового слова по аналогии с той или другой группой слов путём подстановки корня, нужного по смыслу, даёт писателю замечательную возможность экономно и ёмко выразить необходимую полноту содержания. Так, в выражении «повальное... выголаживание страны» («Архипелаг Гулаг») первое слово, образованное от исходного «голод» по типу существительных «выхолаживание», «вымораживание», «выстуживание» и др. подчёркивает масштабность и преднамеренность бедствия; безличное «разотмилось» (Там же), произведённое от существительного «тьма» по образцу глагола «распогодилось», должно уточнить, какая именно перемена произошла в природе; в предложении «Искусство растепляет даже захоложенную затемнённую душу» («Нобелевская речь») глагол, построенный по известному образцу, удачнее другого говорит о постепенности процесса.
Другой часто используемый А. Солженицыным приём обновления употребительной лексики заключается в замене приставок и суффиксов при сохранении корней, что порой, как в следующем тексте, сопровождается переводом привычного слова в другую часть речи: «Что ж обещателъней, чем лозунги комбеда? что ж угрозней, чем пулемёты ЧОНа...!» («Архипелаг Гулаг»). Но чаще подобные эксперименты касаются только приставок, которые или сокращаются или отбрасываются целиком: «...нудила меня к какому-то прорыву» («Бодался телёнок...»), «в запрошлом году» («Раковый корпус»), «мир тусторонний» «В круге первом»); или, наоборот, добавляются там, где вы их не ждёте: «обминул меня Бог творческими кризисами» («Бодался телёнок...»), / «необминуемый магический кристалл» («...Колеблет твой треножник»); \ Или меняются на другие, чтобы выразить оттенок, не содержащийся в « нейтральном варианте, либо «освежить» последний: так, основные линии, которые «уже промечаются» («Архипелаг Гулаг») - не те, что только ещё намечаются или планируются, но те, что уже проступают и становятся видны. Там, где многие сказали бы «нахлынуло», автор романа «В круге первом» пишет: «пятерых из них охлынуло горько-сладкое ощущение родины». Выбранное слово вернее и удачнее для данного контекста, ибо глагол с приставкой «на-» часто означает действие, направленное на одну сторону предмета, тогда как действия, обозначенные глаголами «омыло», «овеяло», «обволокло» и т.п., распространяются на весь предмет со всех сторон. Точно так же «изгасшие глаза» больше, чем угасшие или погасшие, скажут читателю о длительности перенесённых человеком «искорчинах болей» («Раковый корпус»).
Пожалуй, особенно много и, по большей части, продуктивно на смысловое «утяжеление» текста у А. Солженицына работает приставка «из-»: «издавнее всех старожилов» («Раковый корпус»), «написал изнехотя воспоминания» («Архипелаг Гулаг») и т.д. При этом художественная логика писателя часто оказывается убедительней грамматических или стилистических правил, апелляций к частотности употребления тех или других форм. Глагол «излюбить», воспринимаемый читателями в значении, которое он имеет, например, в стихотворении Сергея Есенина «Излюбили тебя, измызгали...», в миниатюре А. Солженицына «Озеро Сегден» приобретает совсем иной смысл: «...это местечко на земле излюбишь ты на весь свой век». Писатель как будто и не помнит того, есенинского, толкования и, не удовлетворившись привычным «полюбишь», за счёт изменения приставки нагружает слово дополнительным содержанием, идущим от форм «излюбленный», «излюблен», то есть «любимый», «любим» - из всех больше всего. Такова и логика употребления этого глагола в «Раковом корпусе»: «он излюбил и избрал простенок».
Не менее разнообразна и поучительна работа А. Солженицына с суффиксами, из которых он по обыкновению отбирает неизбитые и, кроме того, более экономные: «усовершился по коневодству» («Архипелаг Гулаг»), «кое-что и усовершил» («В круге первом»), «обнадёжные предвидения раздумчивых голов» («Пасхальный крестный ход»), «всклочила... волосы» («Раковый корпус») и т.д. Как правило, это помогает уйти от книжного или канцелярского слога к разговорному, иногда - сказово-былинному; такой эффект возникает, например, при замене существительного «воззвание» на «воззыв» («На возврате дыхания и сознания»), «восклицания» на «всклик» («Бодался телёнок...»). Думается, что употребление слов, созданных путём замены или сокращения тех или иных словообразовательных элементов - как корней, так и аффиксов - способствует приумножению лексических богатств современного русского языка и в некоторых случаях его омоложению.
Солженицынские тексты убеждают, что в языке уже есть всё: у глагола, воспринимаемого как одновидовой, оказывается, возможна пара, хотя бы и просторечная; сказав «стали «революционные идеалисты» очунаться» («...Колеблет твой треножник»), писатель употребил форму, вобравшую в себя содержательные оттенки и от одновидового «очнуться», и от парного просторечного «очухиваться - очухаться». То же произведение напоминает, что у глагола совершенного вида «приютить» в запасниках языка есть видовая, сегодня неупотребляемая пара - «приючать». Не останавливается писатель и перед использованием редких в прозе - в поэзии было - деепричастных авторских образований типа «плача или стоня» («Раковый корпус»). Убедительно, сообщая дополнительный экспрессивный оттенок, не содержащийся в нейтральных словах, работают в его текстах просторечные страдательные причастия: «Было угрожено, что его же и расстреляют» («В круге первом»), «успето и о Достоевском» («...Колеблет твой треножник»). При этом удивительной особенностью языка А. Солженицына является то, что вводимые им просторечия порой теряют в его произведениях сниженную окраску и воспринимаются едва ли не как литературные благодаря точному выбору слова для каждой конкретной ситуации.
Конечно, народность и «русскость» языка А. Солженицына - не только в том, что его герои говорят на живом наречии, подслушанном «в гуще народной», но и в том, что в своей языкотворческой работе он учитывает опыт разных пластов отечественной культуры - фольклора, реалистической прозы, поэзии «серебряного века» и, может быть, особенно - Марины Цветаевой и Владимира Маяковского. У Цветаевой тоже не «влюбляются», а «влюбливаются», не «впадают», а «впадывают в: память»; вместо «думайте» у неё - «думьте», вместо «нанизывай» - «нижи» и т.д. (см.: Зубова Л.В. Поэзия Марины Цветаевой: Лингвистический аспект. Л., 1989); и, наконец, в её стихах и поэмах тоже «сполошный колокол гремит...», как и у Маяковского с его «мечусь, оря», «приходится раздвоиться» («Прозаседавшиеся»), «еле расстались, развиделись еле», «приди, разотзовись на стих» («Люблю») и т.д. Иногда солженицынский синтаксис заставляет вспоминать резко своеобразный стиль Андрея Платонова. Вот примеры откровенных реминисценций: «должен домучиться ещё двадцать лет ради общего порядка в человечестве», «мысль не дошла до ясности» («В круге первом») и др.
По-видимому, одна из главных причин возвращения А. Солженицына на родину состоит в его намерении лично и «вблизи» участвовать в «обустройстве России». Ещё в семидесятые годы во время эмиграции он предупреждал об опасности, подстерегающей писателей, которые берут на себя роль обвинителей своего отечества и народа и, отрешившись от чувства совиновности, требуют покаяния лишь от других: «Эта их чужеродность, - считал он, - наказывает их и в языке, вовсе не русском, но в традиции поспешно-переводной западной философии» («Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни»). У писателя же, который не отгораживается от народной боли, по его мнению, гораздо больше возможностей стать «выразителем национального языка - главной скрепы нации, и самой земли, занимаемой народом, а в счастливом случае и национальной души» («Нобелевская речь»).
С А.И. Солженицыным можно и нужно спорить, но сначала - услышать и понять. И - да будет Слово Делом...
Ключевые слова: Александр Солженицын, критика на творчество Александра Солженицына, критика на произведения А. Солженицына, анализ произведений Александра Солженицына, скачать критику, скачать анализ, скачать бесплатно, русская литература 20 в.
Г.Я. Бакланов: «Среди ежемесячного, ежедневного потока литературных произведений, в разной степени талантливых, отвечающих различным читательским вкусам, являются вдруг книги, знаменующие собой гораздо больше, чем даже появление нового яркого писателя. Эти книги призваны оказать влияние на то, что пишется сейчас, на то, что будет писаться после них. Они всегда появляются как бы вдруг. На самом же деле появление их подготовлено всем ходом развития жизни. И читатель их ждёт, не зная ещё, какая это будет книга, кто написал её, зная только, что она нужна ему.
Такой книгой, которую читатель ждал, появление которой он предугадывал, стала маленькая повесть с непритязательным названием “Один день Ивана Денисовича”, только что напечатанная в журнале “Новый мир”. Имя её автора - А. Солженицын - в литературе не встречалось до сих пор и само по себе пока ещё читателю ни о чём не говорит. Верится, однако, что человеку этому предстоит многое сказать людям. <...>
Когда человеку больно, особенно больно впервые, душа его кричит. И чем слабее душа, тем громче кричит он сам, но, испытав многое, что, поначалу казалось, и перенести невозможно, он постепенно твердеет духом, потому что он - человек. И за своей болью он начинает различать и понимать боль других. И если он сильный человек, у него ещё находится для других, для тех, кто слабее его, часть души. Странное дело: отдавая, ты, оказывается, приобретаешь больше.
Вот с этой позиции умудрённого тягчайшими испытаниями человека написана повесть А. Солженицына. Это не крик раненой души, не первый крик боли - повесть написана спокойно, сдержанно, с юмором даже - эта житейская простота изложения действует значительно сильнее».
В.Я. Лакшин: «По поводу Ивана Денисовича в той части критики, которая отнеслась к повести Солженицына скептически, сложился своего рода штамп. Критик подходил к повести осторожно, словно примериваясь, сожалел о горькой судьбе зэка и тут же спрашивал: но идеальный ли герой Иван Денисович? Сам себе спешил ответить “нет” и начинал сетовать на то, “до каких унижений опускается порой этот мастер - золотые руки ради лишней пайки хлеба, как въелись в него инстинкты звериной борьбы за существование, как в конечном счёте страшна его примирённая мысль, завершающая этот мучительный день...” (я цитирую одну из газетных рецензий). Такую вольную трактовку образа Шухова можно было бы ещё раз оспорить, но нам важнее сейчас обратить внимание на другое.
А почему, собственно, Иван Денисович должен быть идеальным героем? Мы видим достоинство Солженицына как художника как раз в том, что у него нет псевдонароднического сентиментальничанья, насильственной идеализации даже тех лиц, которых он любит, трагедии которых сочувствует. У Шухова при желании можно насчитать немало реальных, а не выдуманных недостатков. Взять хотя бы то, как робко, по-крестьянски почтительно относится Иван Денисович ко всему, что представляет в его глазах “начальство”, - нет ли тут чёрточки патриархального смирения? Можно, вероятно, найти у Шухова и иные несовершенства. Но недостатки Ивана Денисовича не таковы, чтобы переносить упор с его трагического положения на его якобы слабость и несостоятельность, с беды его на вину. <...>
Достаточно и того, что в Иване Денисовиче с его народным отношением к людям и труду заложена такая жизнеутверждающая сила, которая не оставляет места опустошённости и безверию. И этот оптимизм тем более зрел и реален, что рассказ о судьбе Шухова вызывает в нас самое живое и глубокое возмущение преступлениями поры культа личности.
Наше представление об Иване Денисовиче как народном характере было бы, пожалуй, неполным, если бы Солженицын показал нам только то, что сближает Шухова с его товарищами по несчастью, и не увидел в лагерной среде своих противоречий и контрастов. <...>
Соблазнительно лёгким решением было бы противопоставить Ивана Денисовича, как человека с небогатой душевной жизнью, людям интеллигентным, сознательным, живущим высшими интересами. <...>
Итак, с одной стороны, “простой люд”, “лагерные работяги”, с другой - «переживающие» интеллигенты; с одной стороны, надо понимать, Тюрин, Шухов, Клевшин, с другой - кавторанг, Цезарь Маркович, “высокий старик”. <...>
В людях, презирающих общий труд и выбирающих любой ценой долю полегче, развивается самоуверенное и хамоватое лакейство. Получая высокую пайку, ухитряясь жить в сносных условиях даже в лагере, придурки чувствуют за собой право третировать работяг как людей второго сорта. <...>
Но есть одно, чего не обойдёшь. <...>
Изящный эстетизм Цезаря, его интеллигентные манеры, то, как он курит трубку, “чтобы возбудить в себе сильную мысль и дать ей найти что-то”,- всё это находится в резком противоречии с низкой прозой тех усилий, какими добываются в лагере относительное благополучие и покой, дающие выход приятным воспоминаниям и милым сердцу разговорам. <...>
У Ивана Денисовича и у кавторанга, у Тюрина и у Клевшина иное отношение к людям и к труду, отношение, которое мы вправе назвать народным в зависимости от того, принадлежат ли эти люди к “народу” или к “интеллигенции” в старом понимании слова. Это народность не внешняя, не показная, а глубоко коренящаяся в них, внутренняя, стойкая, которая особенно дорога Солженицыну и которая сообщает его книге тон мужественного оптимизма.
Солженицыну близки заветы русской литературы прошлого века - народность Некрасова и Щедрина, Толстого и Чехова. Но тот взгляд на народ, какой выражен в его повести, характерен именно для советского писателя и, больше того, для писателя, вошедшего в литературу в последние годы, ознаменованные важными переменами в нашей жизни.
В различных областях духовной деятельности, в том числе в литературе и искусстве, тоже есть свой тяжёлый и серьёзный труд сенокоса и свой прибыльный и лёгкий промысел красилей, работающих по модному трафарету Отношение к труду может объективно сближать и разделять людей, независимо от того, колхозники они или интеллигенты, Шуховы или кавторанга. И Солженицын с новым правом мог бы повторить замечательные слова Чехова: “Все мы народ, и всё то лучшее, что мы делаем, есть дело народное”».
М.М. Дунаев: «Пора осмыслить изображение народа и понимание проблемы народа писателем. Ибо где ещё искать это религиозное начало? Достоевский утверждал: русский народ - богоносец. А Солженицын?
А Солженицын считает, что судить о народе должно именно по свойствам тех человеков, из которых народ составляется. <...> ...Народ предстаёт у Солженицына какою-то полуязыческой массой, не вполне сознающей свою веру. Вот праведница Матрёна, без которой и “вся земля наша” не выстоит. А её вера какова? Весьма неопределённа она. В чём же праведность Матрёны? В нестяжательности. Может, жила просто по душе, проявляя природную её христианскую суть? А может, не так и важно, есть вера, нет ли - был бы человек хороший и жил бы не по лжи? Нет, сам Солженицын такому пониманию противится. <...>
Солженицын приводит к осознанию необходимости религиозного осмысления бытия - всё иное лишь уводит в сторону от истины. Жестоким опытом он обретает эту истину, о которой сказано ещё в Писании и о которой всегда предупреждали Святые Отцы в поучениях, в молитвах. Но истину всегда вернее укрепить собственным опытом. Постижение такой истины становится бесценным результатом (но не материальным, о котором прежде шла речь), который был обретён художником. Обретён тяжкой ценою.
“Вот почему я оборачиваюсь к годам своего заключения и говорю, подчас удивляя окружающих:
Благословение тебе, тюрьма!”
Взгляд на мир становится многомерным.
Даже если бы от всего написанного Солженицыным уцелело одно лишь это место, как осколок громадной фрески, и тогда можно было утверждать: это создание мощного таланта.
Здесь возникает противоречие; и как у Твардовского: “Я знаю, никакой моей вины... но всё же, всё же, всё же!” Разрешить противоречие можно, лишь если время переходит для человека в вечность. Иначе всё бессмысленно. И благословение тюрьме обернётся насмешкой над погибшими. Потребность в бессмертии возникла вовсе не от жажды ненасытных людей в погоне за наслаждениями, как полагал не знавший христианских истин Эпикур. Она рождается жаждою обрести смысл в бытии, выходящем за рамки материального мира».
-- [ Страница 1 ] --
На правах рукописи
Алтынбаева Гульнара Монеровна
Литературная критика А.И. Солженицына:
Специальность 10.01.01 – русская литература
диссертации на соискание ученой степени
кандидата филологических наук
Саратов – 2007
Работа выполнена на кафедре русской литературы ХХ века ГОУ ВПО «Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского»
Научный руководитель – кандидат филологических наук, профессор
Людмила Ефимовна Герасимова
Официальные оппоненты – доктор филологических наук, доцент
Владимир Петрович Крючков
кандидат филологических наук
Анастасия Александровна Кочеткова
Ведущая организация – ГОУ ВПО «Ульяновский государственный
технический университет»
Защита состоится «30» мая 2007 г. в 12.00 на заседании диссертационного совета Д 212.243.02 в Саратовском государственном университете им. Н.Г. Чернышевского по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83, корпус 11, факультет филологии и журналистики.
С диссертацией можно ознакомиться в Зональной научной библиотеке Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.
Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат филологических наук, профессор Ю.Н. Борисов
I. Общая характеристика работы
С момента первой публикации и до сегодняшнего дня личность и творчество Александра Исаевича Солженицына вызывают неостывающий интерес, да и отношение к писателю далеко не однозначно.
Несмотря на то, что уже существует обширный свод литературы об А.И. Солженицыне, исследование его творчества ещё только начинается. Очень важным при этом, по мнению всех пишущих о Солженицыне, является синтез различных аспектов, методик и жанров изучения. Это, несомненно, так, хотя есть ещё сферы творческой деятельности писателя, требующие предварительно систематизации и тщательного анализа. Одна из них – литературная критика. «Раздвигая границы» литературы, Солженицын раздвигает и границы писательской критики.
О Солженицыне – интерпретаторе русской литературы говорится в публикациях П. Басинского, В. Бондаренко, Л. Бородина, Р. Киреева, П. Лаврёнова, И. Пруссаковой, а рассмотрению отдельных составляющих критической деятельности писателя посвящены работы Л. Герасимовой, И. Ефимова, Н. Ивановой, Н. Коржавина, Л. Лосева, А. Молько, А. Немзера, Л. Сараскиной, И. Сиротинской, Л. Штерн, участников двух выпусков сборника «А.И. Солженицын и русская культура» (Саратов, 1999, 2004) и др.
Нет практически ни одного значительного исследования творчества Солженицына, где не учитывались бы литературно-критические, публицистические суждения писателя, но чаще всего они привлекаются как вспомогательный материал для проверки, подтверждения, расширения результатов анализа художественных текстов. На публицистические выступления А.И. Солженицына ссылаются в своих работах М. Голубков, Ж. Нива, Р. Плетнев, П. Спиваковский, А. Урманов, Н. Щедрина и др.
Первые подступы к анализу литературной критики А.И. Солженицына как самостоятельного объекта исследования сделаны в кандидатской диссертации Т. Автократовой «Из "Литературной коллекции" А.И. Солженицына как явление писательской критики» (Тюмень, 2004).
До сих пор литературная критика Солженицына в целом не стала предметом специального изучения. В связи с этим новизна и актуальность диссертационной работы видятся в системном анализе комплекса литературно-критических взглядов А.И. Солженицына, жанровой и стилистической специфики его литературно-критического творчества.
Объектом исследования в диссертации стали: «Литературная коллекция»; литературно-критические статьи и заметки; Нобелевская лекция; предисловия и «вступительные слова» к публикациям писателей и учёных; жанр «слова при вручении премии А.И. Солженицына»; публицистика А.И. Солженицына; мемуарные книги «Бодался телёнок с дубом» и «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов»; автобиографические очерки «С Варламом Шаламовым» и «С Борисом Можаевым»; отрывки из «Дневника Р-17»; интервью. Для сопоставления привлекаются художественные произведения А.И. Солженицына.
Предметом исследования являются проблематика, жанры, стиль и образ автора в литературной критике А.И. Солженицына.
Цель работы состоит в том, чтобы выявить систему эстетических взглядов А.И. Солженицына, его историко-литературных представлений, ставшую основой писательской критики, и показать реализацию теоретической позиции художника в жанрах, стиле его критических работ, в специфике вырастающего из них образа автора.
Цель работы предполагает решение следующих задач :
- определить корпус текстов А.И. Солженицына, относящихся к писательской критике или содержащих принципиальные для автора эстетические суждения;
- систематизировать эстетические, теоретико-литературные суждения А.И. Солженицына; реконструировать его критерии литературно-критической оценки произведения;
- проанализировать специфику жанров и их синтез в литературной критике А.И. Солженицына;
- исследовать стилистические приёмы и авторские стратегии Солженицына-критика;
- выявить особенности образа автора в литературно-критической сфере деятельности А.И. Солженицына, сопоставить с образом автора в публицистике, мемуаристике и художественных текстах писателя.
Методология диссертационного исследования предполагает использование историко-литературного, историко-культурного, интертекстуального, теоретико-литературного, стилистического методов изучения текста. Методологической базой исследования стали труды М.М. Бахтина, А.И. Белецкого, В.В. Виноградова, Л.Я. Гинзбург, Г.А. Гуковского, Б.Ф. Егорова, Б.А. Ларина, А.Ф. Лосева, Ю.М. Лотмана, А.П. Скафтымова, А.Н. Соколова, Б.А. Успенского.
Определяющее значение для понимания природы литературной критики, её истории и типологии имели исследования Б.И. Бурсова, В.И. Баранова, А.Г. Бочарова, Е.Г. Елиной, С.П. Истратовой, А.П. Казаркина, С.П. Лежнева, С.И. Машинского, В.В. Прозорова, Г.В. Стадникова, И.С. Эвентова и др.
Теоретическая значимость исследования – в систематизации эстетических и теоретико-литературных суждений А.И. Солженицына, в результатах их сопоставления с его литературно-критической практикой, в расширении представлений о формах писательской критики в ХХ веке.
Практическая значимость работы: результаты диссертационного исследования могут быть использованы при изучении творчества А.И. Солженицына в контексте новейшей русской литературы, при подготовке лекционных курсов, спецкурсов, посвящённых творчеству писателя, при теоретическом и практическом изучении жанров писательской критики, а также при чтении курсов по истории русской литературы и критики второй половины ХХ – начала ХХI века, в работе спецсеминаров.
Положения, выносимые на защиту:
- Нравственно-философское, религиозное понимание А.И. Солженицыным ответственности, свободы, самоограничения определяет главные эстетические координаты его литературной критики: правда, достоверность, искренность, память, мера и гармония, «самородность» идей, лаконизм, единство духовного и эстетического критериев.
- Эстетика Солженицына реализмоцентрична. В свете реалистической традиции решаются проблемы соотношения жизненного материала и вымысла, художественной конвенциональности, творческой преемственности и авангардизма, динамизма литературных форм в ХХ веке.
С реалистических позиций отрицается фальшь соцреализма, оцениваются произведения модернистов и постмодернистов, достижения современных писателей.
- Диалогизм литературной критики Солженицына проявляется и в теоретическом осмыслении триады: автор – произведение – читатель, – и в создании диалогического – и шире – интертекстуального поля в критических очерках, и в умении вызвать резонансную потребность «собеседника» в авторефлексии и внутренней самопроверке, и, наконец, в двухуровневой композиции каждой публикации из «Литературной коллекции», когда «на равных» присутствуют и анализируемый и анализирующий писатель.
- Литературная критика Солженицына полижанрова и полистилистична. Вместе с тем можно говорить о её стилевом единстве, о существенных особенностях стиля Солженицына-критика, корреспондирующих с его художественным стилем.
- Изучение средств создания образа автора как в литературно-критических, публицистических, мемуарных, так и художественных формах творчества А.И. Солженицына позволяет утверждать единство образа автора для всех жанров, в которых работает писатель.
- Литературная критика А.И. Солженицына способствует пониманию новой природы художественности в литературе ХХ века, вносит вклад в реальное «языковое расширение», в историческое и теоретическое осмысление его путей.
- Лаборатория писателя и лаборатория читателя, приоткрытая А.И. Солженицыным, – важное средство постижения его художественного творчества и целостности его личности.
Материалы диссертации прошли апробацию на ежегодных Всероссийских научных конференциях молодых учёных «Филология и журналистика в начале ХХI века» (Саратов, 2001-2006), Всероссийском научном семинаре «А.И. Солженицын и русская культура» (Саратов, 2002), Всероссийской научной конференции «Мир России в зеркале новейшей художественной литературы» (Саратов, 2004), V Международных замятинских чтениях «Творческое наследие Евгения Замятина: взгляд из сегодня» (Тамбов-Елец, 2004), Всероссийской научной конференции «Изменяющаяся Россия – изменяющаяся литература: художественный опыт ХХ – начала ХХI вв.» (Саратов, 2005), Интернет-конференции «Литература и реальность в ХХ веке», секция «"Литература факта" и ее разновидности в ХХ веке» (Отдел теории и методологии литературоведения и искусствознания Института мировой литературы им. А.М. Горького (ИМЛИ) РАН, Ассоциация развития информационных технологий в образовании «ИНТЕРНЕТ-СОЦИУМ», Образовательный портал auditorium.ru, www.auditorium.ru, 01.04-31.05.2005), IV Всероссийской научной конференции «Художественный текст и языковая личность» (Томск, 2005), Международной научной конференции «Литература в диалоге культур-4» (Ростов-на-Дону, 2006), Международной научно-теоретической Интернет-конференции «Герменевтика литературных жанров», секция «Жанровое пространство культуры» (Кафедра истории русской и зарубежной литературы Ставропольского государственного университета, http://www.conf.stavsu.ru, 03.10-07.10.2006), в Международном научном Интернет-семинаре «Теория синтетизма Е.И. Замятина и художественная практика писателя: эстетический ресурс русской литературы ХХ – XXI веков» (Тамбовский государственный университет, http://www.tsu.tmb.ru , 21-30.11.2006 г.).
Основные положения диссертации отражены в 13 публикациях.
Структура работы . Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка, включающего 392 наименования. Общий объем диссертации – 229 страниц.
II. Основное содержание работы
Во Введении определяются цели, задачи и методологические основы диссертационного исследования, обосновывается его актуальность, устанавливаются научная новизна, практическая и теоретическая значимость работы, даётся история вопроса, выясняются необходимые теоретические понятия, формулируются положения, выносимые на защиту.
Первая глава «Идейно-эстетические "узлы" литературной критики А.И. Солженицына» посвящена системному осмыслению ключевых для творчества писателя этико-эстетических категорий, теоретических и методологических основ его литературно-критического творчества.
В центре первого параграфа «Ответственность, служение и свобода» – центральные для Солженицына этико-философские категории, включающие его в традицию русской религиозно-философской мысли и в то же время индивидуально преломленные в «раскалённый час» мира – вторую половину ХХ века. Неснимаемый историей культуры вопрос о взаимоотношении между этикой и эстетикой Солженицын решает, видя их общий исток, ощущая себя «маленьким подмастерьем под небом Бога».
Единство личности А.И. Солженицына и единство его творчества – в ответственности перед Богом, перед Россией, перед читателем. Высокую ответственность художника Солженицын связывает прежде всего с силой искусства, с его природой. В Нобелевской лекции он говорит о великой объединяющей силе искусства, которое «растепляет даже захоложенную, затемнённую душу к высокому духовному опыту. Посредством искусства иногда посылаются нам, смутно, коротко, – такие откровения, каких не выработать рассудочному мышлению». А.И. Солженицын говорит о «шкалах оценок», совместить которые, «создать человечеству единую систему отсчёта – для злодеяний и благодеяний, для нетерпимого и терпимого» способно только искусство, литература – «единственный заменитель не пережитого нами опыта».
Диссертант идёт по пути последовательного рассмотрения понимания Солженицыным ответственности и служения, концепированных русской литературной традицией (Пушкин, Достоевский), оценки писателем меры ответственности в творчестве современников, собственной ответственности Солженицына-«подпольщика» и свободно печатаемого автора.
Проблема ответственности рассматривается Солженицыным не только в общеэстетическом или нравственном аспектах, но и в аспекте «технологии» писательского труда. Об ответственности перед читателем в подаче материала он говорит в своих очерках «Литературной коллекции» («Приёмы эпопей», «Леонид Бородин – "Царица Смуты"», «Василий Белов» и др.).
Проблема ответственности в эстетике Солженицына неотделима от проблемы свободы художника.
В реферируемом параграфе на материале литературной критики, мемуаристики и публицистики Солженицына речь идёт о всех формах протеста писателя против внешнего ограничения свободы художника, о понимании дара свободы и его парадоксов, о соотношении независимости и духовной свободы. Специально анализируется этическое, метафизическое, социальное, эстетическое содержание важнейшей для Солженицына категории самоограничения.
Органическая для А.И. Солженицына связь этической и эстетической природы художественного творчества проявляется в трактовке правды и способов её выражения . Рассмотрению этой связи посвящён второй параграф первой главы.
А.И. Солженицына волнует проблема достоверности. Эта категория, по его словам, принципиально важна для литературы XX века, о ней размышляет он буквально в каждом очерке «Литературной коллекции». Часто внутри одного произведения Солженицын замечает одновременное присутствие достоверных и недостоверных черт, правдоподобия и неправдоподобия. В «Литературной коллекции» он говорит о соотношении реальных исторических фактов с художественным вымыслом, а также о месте и значении анахронизмов (временных несовпадений) в произведении, выясняет для себя, насколько анализируемый автор (например, В. Гроссман) «правду понимал или разрешил себе понять». Высшую задачу: «воссоздавать растоптанную, уничтоженную, оболганную у нас реальность» – Солженицын понимает в единстве собственно исторического, нравственного и эстетического аспектов. Соотнося художественную реальность романа с исторической реальностью, Солженицын-критик дочерпывает для себя те аспекты действительности, которые не интересовали рецензируемого писателя или которые были закрыты для того идейной установкой, требованиями цензуры и т.д. Солженицын-художник всеми средствами и приёмами поэтики постоянно апеллирует к реальности.
Реальность многогранна в трактовке А.И. Солженицына. Художественное её осмысление тесно связано с памятью. Литература наделена «неопровержимым сгущённым опытом: от поколения к поколению. Так она становится живою памятью нации». Бережно «коллекционирует» Солженицын исторические, бытовые, культурные детали далёкого времени, сохранённые художественной памятью писателей и памятью языка. Пополнения «Русского словаря языкового расширения» – это и расширение реальности прошлого, настоящего и будущего, выраженной в языке и стимулируемой языком. Особым вниманием Солженицына пользуется такой способ сбережения реальности как мемуары. Автор мемуарных книг, он выступил организатором «Всероссийской мемуарной библиотеки».
Достоверность фактическая, документальная неотделима для Солженицына от достоверности личностной (искренности).
Среди авторов «Литературной коллекции», у которых искренность, «сердечный жар» в изложении, а отсюда и достоверность факта являются определяющими, А.И. Солженицын выделяет П. Романова, И. Шмелёва, Е. Носова, И. Лиснянскую, Н. Коржавина. Писательская искренность есть форма проявления внутренней правды писателя. За отсутствие этой черты А.И. Солженицын не жалеет даже своих любимых авторов – например, Е. Замятина. Наравне с правдой внутренней, А.И. Солженицын говорит и о неправде внутренней, называя её «двоеньем». Об этом – кратко в «Нобелевской лекции», подробно – в очерке о Юрии Нагибине.
В параграфе выявляются принципиально важные аспекты полемики Солженицына – в его художественных и критических текстах – о правде в искусстве и способах её воплощения с теоретиками и практиками социалистического реализма, с писателями-модернистами и постмодернистами. С особой тщательностью сберегает Солженицын все завоевания реализма в отечественной литературе второй половины ХХ века (очерки и выступления о творчестве В. Белова, Б. Можаева, В. Распутина, Г. Владимова и др.). Исторический путь русской литературы ХХ века представляется ему путём расширения и углубления реализма в противоборстве с отрицающими его течениями.
Корректирующими моментами по отношению к такому представлению видятся диссертанту отмечаемое самим Солженицыным и его исследователями влияние писателей-модернистов на его творчество и художественный спор с В.Т. Шаламовым. Опираясь на исследования, посвящённые прозе Шаламова, диссертант ставит вопрос о природе художественной коммуникации в текстах Солженицына и Шаламова, передающих нечеловеческий лагерный опыт; утверждает, что если у Солженицына этот опыт расширяет возможности реалистической прозы, то у Шаламова – кардинально меняет, вплоть до отрицания.
Третий параграф сконцентрирован на анализе природы художественности и поэтики произведения в трактовке А.И. Солженицына.
Эстетика А.И. Солженицына реализмоцентрична, но он, несомненно, исходит из понимания художественности как исторической категории. Об этом свидетельствуют и его суждения о корнях русской словесности, о влиянии на содержание и форму русской литературы Православия, об исторической жизни языка, о значительном изменении природы художественности в ХХ веке.
Собирая и систематизируя суждения Солженицына, относящиеся к теории художественного текста, диссертант показывает, как непосредственно связаны они с практикой анализа произведения.